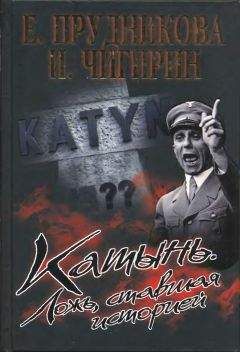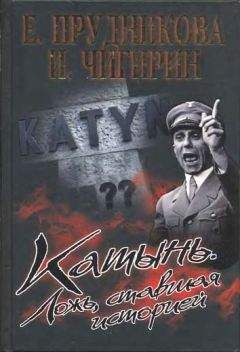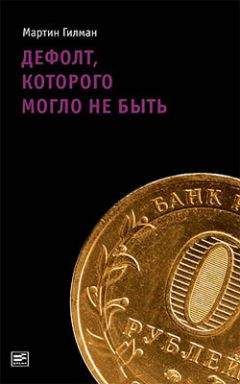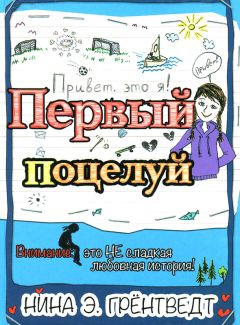Карен Свасьян - Европа. Два некролога
Судьба европейской культуры, вплоть до её сегодняшней абсолютной деструкции, пропитана теологическим неразумием. Служители абсурда ощутили бы себя на седьмом небе, если бы им, вместо того чтобы ожидать Годо, сподобилось изучать богословие. Ни
о чем не пеклась христианская теология больше, чем об исполнении люциферического заказа окончательно разъединить небо и землю. В чем все эти отцы церкви состязались, так это в рвении быть не только большими католиками, чем папа, но и большими платониками, чем Платон. Острота последнего случая особенно бросается в глаза, если учесть, что сам Платон отнюдь не отличался этим рвением… В Платоне интересен не только его платонизм, но и антиплатонизм. В том–то и лежит более глубокий смысл определения греческих философов как «христиан до Христа», что они, «язычески» укрепляя водораздел между чувственным и сверхчувственным, в то же время пытались «христиански» его одолеть. Именно: они предчувствовали, что их небо (sub Jove frigido) станет пустым, как только Логос сойдет на землю, и что вследствие этого совершенно иными окажутся и традиционные философские заботы. Нельзя же было в самом деле думать, что слово Крестителя: приготовьте путь Господу! — относилось ко всем, кроме философов.
Трагикой греческой философии было, что она не захотела осознать свое латентное христианство даже после Голгофы. Оттого дохристианский «христианин» Платон обнаруживает признаки декадентского распада в послехристианском «язычнике» Плотине, в то время как дохристианскому «христианину» Аристотелю позже и вовсе доводится надеть тюрбан. Христианские доктора прокармливали себя остатками со стола греческого симпосиона с ничуть не меньшим аппетитом, чем, скажем, некоторые антропософские доктора прокармливают себя университетскими крохами. Но если платоновский дуализм в исполнении самого Платона был еще некоего рода приглашением на казнь, то у окончательно утвердивших его христианских философов он вырождается попросту в нелепость.
Лаконичнее всего запечатлен этот дуализм в формуле Карла Барта: «Бог на небе, а ты на земле». При более тонком чутье на «опасные связи» можно было бы опознать в этом основополагающем принципе теологии её кровного двойника под именем Коммунистический Манифест. Некое утонченное демоническое существо предстает взору, выныривая на поверхность в маске то христианской догматики, то догматики марксистской. Расстояние, отделяющее теологию теизма от теологии атеизма, едва ли превышает расстояние, отделяющее марксистскую критику политической экономии от лозунга «Грабь награбленное!».
От этой теологии остается один лишь шаг до клича: «Долой Бога!» Мы не откажем себе в дидактическом злорадстве указать на большевистский pendant к богоученому мужу Барту. Бог в России 1918 года — не понятие, ни того менее проблема, а подсудимый. Он стоит, как обвиняемый, перед пролетарским трибуналом. После оглашения длинного списка грехов и преступлений суд приговаривает Его к смертной казни. Специальное подразделение выстраивается в ряд, вскидывает винтовки и по команде открывает огонь по небу, дабы обитающий в нем царь и тиран был «мертв». Нужно же было однажды воздать должное ницшевскому Gott ist tot не только в густочернильной эзотерике хайдег- геровского дуктуса, но и a la russe. — Потребовалась бы теософия, не буддобританская, а гётевская, и уж ни в коем случае не теология, чтобы понять, что смерть Бога — это не бахвальство обывателя, возомнившего себя эдакой белокурой бестией, а сущность самого Бога, который оттого и мертв, что есть сама Смерть. Упраздненный дух богословов загнал их в тупик, подменив им трехлетнюю мистерию Бога неким временным мероприятием на земле, после чего Он подвергся мученической смерти sub Pontio Pilato и препоручил по Вознесении все земные заботы своим клеркам. В Константинополе 869 года — с подачи академиков Гондишапура — был сделан лишь последний вывод из этого задания, и выводом был: некий Богодух, прописанный на своем небесном месте без права перемещения. Дух дышит, где хочет Святая Церковь, или он — не дышит вообще. Бог как дух диктаторски и незримо пребывает на небе. Человек, как тело и душа, ютится на земле, которой завладел дьявол. Западный религиозный пафос изживает себя с этого момента под знаком кафковского Письма к отцу. С какого–то времени на Западе молятся некоему Дону на небеси, чье неисповедимое самодурство сверху вниз фрейдистски комплементиру- ется бессознательным желанием отцеубийства снизу вверх. Ничто не свидетельствует об этом балагане ярче и бесстыднее, чем поздняя сенсация вокруг ницшевского Бог умер. Интеллектуально–религиозным амбициям западного бюргера, не выходящим за рамки Gretchenfrage, могла лишь льстить репутация убийцы Бога! Шутка в том, что в названном убийстве и в самом деле не обошлось без него, безбожника эпохи Дарвина и «канканов», не желающего больше подчиняться дряхлому теистическому предку. Ребенок верит в то, чего он не может знать. Напротив, взрослый муж предпочитает говорить не: я верю, но: я знаю (или: не знаю).
Если же он (как философ и вообще ученый муж) доходит до того, что говорит: не знаю и не буду знать, и даже как бы гордится этим, то он обессмысливает вещи мира, которые имеют свой смысл и свою сущность не иначе как через познание. Смерть Бога, аттестованная в 125 «Веселой науки», идентична поэтому агностическому вето на сущность вещей. Ницшевское Gott ist tot лишь люциферическо–театрально возвещает то же, о чем ариманически сухо свидетельствует ignoramus et ignorabimus Дюбуа- Реймона. Агностицизм и есть (бюргерски санкционированная, ариманическая) смерть Бога, ибо нет и не может быть более адекватной негации Бога, чем установка: не знаю и не буду знать. Где эта установка выносимее: в её материалистически наглой простоте или в симулирующей смиренность и богобоязненность христианской косметике — остается вопросом вкуса. Христианская догматика искореняла гнозис по той же причине, по которой Синяя Борода умерщвлял любителей седьмой двери. Оттого смысл этой догматики мог быть только дуализмом — с господином на небе и миллионами слуг на земле. Что марксизм есть плоть от плоти этой догматики, в этом могут сомневаться лишь те, кто больше доверяет этикеткам на бутылках, чем их содержимому. Богу на небе оставалось лишь дожидаться исполнения сроков, когда в один прекрасный день миллионы парий соединились бы в материи и отплатили бы Ему единодушным безверием за невозможность встретиться с Ним однажды в духе.
Мы видели уже: судьба культуры на Западе, вплоть до современности, была предрешена арабски отредактированной резолюцией одного христианского собора. Все последующие бедствия физического плана — войны, революции, массовые убийства, голод, эпидемии, террор, атомная бомба, разрушение окружающей среды — лишь постольку интерпретируются (атеистически) как случай или (теистически) как кара Божья, поскольку предыстория их не прочитывается в её духовной подоплеке. Между тем объяснение случившегося через Божью кару или слепой случай целиком умещается в жанре сплетни, каковая сплетня отнюдь не становится привилегированнее оттого, что сплетники слывут властителями дум и прижизненно резервируют себе посмертные места в серии Жизнь замечательных людей. Необыкновенно гнетущее впечатление производит отказ западного человека признать и принять все последствия своего совершеннолетия.
Его сжатая в кулак воля к идиотизму есть лишь последнее звено в цепи коротких замыканий его сознания, начальное звено которого представлено христианскими Patres, вызвавшими к жизни этот гигантский мировой заговор. Мы попытаемся составить краткий абрис некой конспирологии, заранее огораживая её как от мондиалистских критиков справа, так и от их традиционалистских близнецов слева. Исходный пункт этой конспирологии можно будет сформулировать следующим образом: на христианском Западе всегда постулировалась гностичность природы и агностичность Бога; если первую дозволялось познавать, то во второго надлежало только верить. Болезнь западной культуры — болезнь двойного неразумия, именно: когда наивно–реалистические представления, с одной стороны, связаны лишь с чувственным миром, с другой же стороны, переносятся и на духовное, после чего беспечные малые хотят воспринимать духовное (пусть в более тонкой и разбавленной форме) на манер вещей физического мира.
Мейстер Экхарт из XIII века разоблачает этот двойной заговор и обезвреживает его. «Некоторые люди, — предупреждает Мейстер Экхарт, — хотят видеть Бога глазами, как они видят корову, и радоваться Богу, как они радуются корове… Простакам кажется, что они могут видеть Бога, словно бы Он стоял там, а они здесь. Это, конечно, не так. БОГ И Я СУТЬ ОДНО В ПОЗНАНИИ»[46]. Закат Европы, монументальная тема Шпенглера (по сути, тема зла), сигнализируется, вопреки Шпенглеру, не биологическим дряхлением западной культуры, а её перманентным впадением в агностицизм. Отождествляя зло лишь с его политической манифестацией, приходят к тезису о банальности зла. Банальное бюргерское сознание банализирует зло по своему подобию. Но оригинальность зла в том, что задолго до того, как оно стирает с лица земли города и нагромождает друг на друга горы трупов, оно достигает зрелости в головах безвреднейших интеллектуалов, не способных обидеть и мухи. Ну разве же не оригинально, что злодеям от политики даже в дурном сне не приснится, чем они обязаны этим божьим коровкам! Допустив, что научно вышколенная голова есть голова, профессионально способная считать и спекулировать, но не познавать, мы перемещаемся в самое сердцевину проблемы зла. Хотят научно покорить мир, не имея хоть сколько–нибудь отдаленного представления о «самих себе». Ненавидят свое воплощенное и в то же время свободное от тела Я, как можно ненавидеть только немецкое. Отшатываются в страхе от троякой идентичности немецкого тезиса: БОГ и Я суть одно в ПОЗНАНИИ. Убрать из этого уравнения хоть один член — значит сделать его недействительным. Через устранение духа в человеке (дух есть Бог в человеке) налагают вето и на познание. Но познание — сам игнорамус Кант признаёт это — есть естественная потребность.