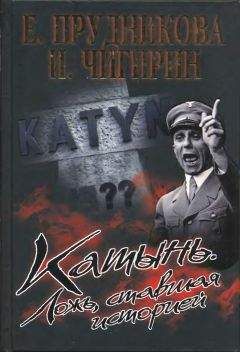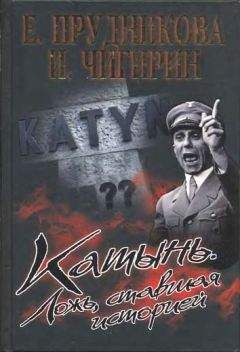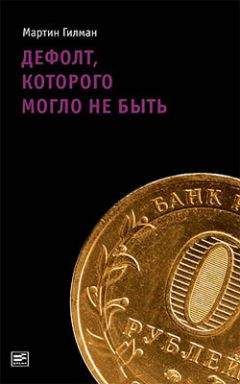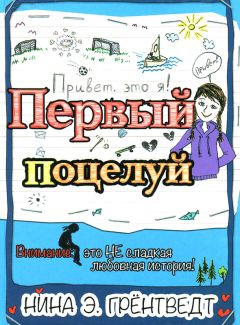Карен Свасьян - Европа. Два некролога
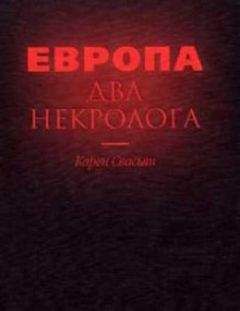
Обзор книги Карен Свасьян - Европа. Два некролога
Европа. Два некролога
Предисловие к русскому изданию
Эта книга, состоящая из двух частей, на деле представляет собой две книги, точнее, две версии одной и той же книги. В первом варианте она была написана осенью 1996 года и тогда же издана в Базеле. Перечитав её по некотором времени, я подумал, что смог бы написать её заново: не переделать, дополнить, изменить, а именно снова написать. Так она и вышла в новой версии весной 1998 года в том же базельском издательстве Rudolf Geering. Измененным оказался только подзаголовок, определивший всю разность линий визирования и прицельных дальностей обеих версий. Поминки по Европе, увиденные сначала в оптике «одной близящейся катастрофы», справлялись вторично в «память об одном упущенном выздоровлении». Повторяю: речь шла не о дополнении, а о новой попытке; потеряй я рукопись и появись у меня охота восстановить потерянное, я бы, разумеется, восстанавливал его не по памяти и не по осколкам, как некую упавшую с подставки и разбившуюся статуэтку, а с нуля и «снова в первый раз».
Намерение написать уже написанное снова и по–новому было, впрочем, продиктовано не прихотью, а потребностью, даже расчетом. Не секрет, что, пишучи или говоря, мы не выражаем некую полноту имеющего и желающего быть сказанным, а лишь более или менее удачно отодвигаем границы невыразимого. Писать или говорить значит бороться с афазией, которая настигает нас едва ли не с каждым восприятием и потребностью его высказать. Слова — колья, вбиваемые в те самые участки помысленного, которые кажутся нам отвоеванными у великого царства немоты (на деле, лишь парадокс немоты, утверждающей себя не иначе, как позволяя себя нарушать). Самообман писателя — его успокоенность на последнем дописанном предложении, хуже: его наивная вера в то, что, дописав конец книги, он и в самом деле дошел до конца, а не просто остановился, как курица перед чертой или как случайно сорвавший банк на разовом выигрыше. Другое дело, если, проводя черту, он сознательно идет на капитуляцию, зная, что отодвигать границы можно было бы и дальше и что «конец» есть всегда лишь эвфемизм усталости, одышки и резиньяции… Потребность написать книгу заново мотивировалась очевидными изъянами первой попытки; начиная писать во второй раз, я отталкивался как раз от тех границ прежнего текста, поспешная и несколько небрежная разметка которых уже с самого начала оставляла желать лучшего. Расчет заключался в намерении (скорее всего, иллюзорном) еще раз и в другой последовательности тормошений расшевелить читателя. Если не всякая книга пишется для читателя (иные книги вообще противопоказаны читателю), то издается она, тут уж ничего не поделаешь, для читателя. Читатель же, а тем более современный, больше: западный читатель, привыкший покупать книги на столь же дистанционно управляемый лад, что и зубную пасту, не читает вообще никаких других книг, кроме тех, на которые его заранее наводят и которыми он пленен до, а нередко и без их прочтения; книга — это товар, за который платят деньги, а поскольку деньги привыкли здесь платить за удобства, то и от книги ждут той же добротности и предсказуемости, что и от хорошей обуви или вставной челюсти. В моем случае блокада оказывалась двойной. Одного того, что книги написаны антропософом, было достаточно, чтобы без прочтения подвергнуть их бойкоту.
Ибо антропософское движение уже давно — и с правом — игнорируется миром, зачислившим его в разряд сект, несмотря на конформистские старания дорнахской и прочей номенклатуры отмежеваться от собственного происхождения и продемонстрировать абсолютную совместимость с впавшей в маразм цивилизацией Запада, что значит: уверять мир в своей лояльности, внушая миру, что и этот чёрт не так страшен, как его малюют, напротив, вполне «свой», светский, демократичный, компатибель- ный, политкорректный, тусовочный, педерастолюбивый, макдональдорезорбтивный, короче, о'кейный. Отсюда явствовал забавный парадокс: если книги эти, как антропософские expressis verbis, прежде всего должны были бы быть прочитаны антропософами, то именно антропософами они в силу сказанного выше и не могли быть прочитаны. С другой стороны: если антропософских читателей отталкивала их неантропософскость, то неантропософским читателям угодно было бойкотировать их непрочтением как раз за их антропософскость. В итоге оказывалось, что их просто «нет»; их и не «было», да и не могло «быть», в условиях фокуса, где одни неантропософы презирали других неантропо- софов, считая их антропософами оттого лишь, что последние сами считали себя антропософами. Так выглядело это в лакмусовом растворе идеологий, претенциозных и лживых, как все идеологии. Фактически дело могло обстоять гораздо проще: книги оставались непрочитанными не столько по идеологическим соображениям, сколько по чисто техническим, то есть не по нежеланию, а, скорее, по немочи читательской публики. Какое имеет значение, мнит ли себя читатель антропософом или как раз неантропософом, если ему в обоих случаях нечем читать, незачем читать, просто некуда читать! Можно по–всякому оспаривать гибель Запада в срезах культуры, политики, хозяйства или оплаченной журналистской живучести, но оспаривать гибель читательского Запада под силу человеку либо слепому, либо притворяющемуся слепым.
Ознакомившись с текстом одной моей книги (не этой), издатель попросил меня укоротить — не сократить, а именно укоротить — некоторые предложения, показавшиеся ему чересчур длинными, примерно в пять- шесть строк. «Поймите меня правильно, — он старался смягчить мое недоумение неофита, ожидавшего со стороны зашибающего его кеглями немецкого языка каких угодно шишек, но уж никак не этой, — я не имею ничего против Вашей манеры писать, но, как издатель, я должен заботиться и о читателе. Так вот, предложения следует укоротить, потому что читатель, дочитав их до конца, может забыть, как они начинались». Мое осторожное напоминание, что предложения эти писались меньше всего в расчете на то, что читать их будут олигофрены, вызвало в ответ не больше чем мягкую понимающую улыбку, из разряда тех, которыми деловые собеседники, как правило, реагируют на более или менее несерьезные отклонения от темы. Остается надеяться, что с русским читателем мне повезет больше: если не в дружном презрении к идеологии, то хотя бы по части длинных предложений.
Книги эти писались на немецком языке, в ряде мест с непроизвольной оглядкой на русский. На этот раз мне пришлось наконец сполна ощутить курьез писателя, сподобившегося писать на «не родных» языках, сначала «не родном» русском, а позже, волею судеб, «не родном» немецком, при том что писательствовать в «родном» армянском ему так и не привелось. Переход из «русского» в «немецкий», при всей одинаковости исходных «мировоззрительных» предпосылок, давался нелегко; надо представить себе кочевника, вознамерившегося странствовать, что значит: не морочить пространство внезапностями прыжков и оседлостей, а выхаживать его геометрией нацеленной воли. Оглядка на русский могла означать: переутомление дисциплиной и сознательностью на фоне возникающего время от времени желания сорвать воротничок и закуролесить — в лучших традициях отечественной ненормативности; но это были лишь рецидивы писательского прошлого (любопытно, что и в «русском» в свое время не обходилось без оглядки на «немецкий»), ностальгия беглеца–эмигранта по покинутому стилю, в сущности, вспышки злобы на унизительность грамматических имплантатов, на необходимость снова учиться писать на «другом чужом» языке, после того как написал уже с дюжину книг на «своем чужом»;
если при этом я не чувствовал себя закомплексованным в неполноценности, то оттого, по- видимому, что, будучи писателем–чужеязычником, ничем иным, кроме названного комплекса, и не страдал. (Когда немецкий редактор качает теперь головой при том или ином обороте и внушает мне, что это «не по–немецки», я пытаюсь развеселить его тем, что рассказываю ему о его русских коллегах, которым тоже казалось когда–то, что «это» — «не по–русски». Или защищаюсь от него Делёзом, умным Делёзом, нашедшим формулу стиля, как «иностранного языка в языке».) Ясное дело, узнав о возможности опубликования книги в России, я ни на секунду не сомневался в выборе переводчика. Мне не давали покоя те, записанные по–немецки, но с тоскливой оглядкой на русский, места, которые мне не терпелось услышать по–русски, хотя, по правде говоря, я и не знал толком, что и с какого языка на какой здесь, собственно, переводилось. Было бы, поэтому, неверно назвать русский перевод с немецкого оригинала переводом, хотя книги в общем как раз переводились. Разгадка этого незатейливого парадокса лежит, конечно же, в том, что переводчиком был не переводчик, а автор, стало быть, некое вполне неподотчетное лицо, если к чему и годное, то уж никак не к ремеслу переводчика; нетрудно догадаться, в режиме какой ужасной отсебятины делался «перевод», причем отсебятины, вызываемой не только причинами «творческого» порядка, но и — довольно часто — неумением адекватно перевести оригинал. Завязанные по–немецки узлы не распутывались мною большей частью, а разрубались: по–русски; я позволял себе в трудных случаях не терять времени на перевод, а писать текст наново, наслаждаясь счастливой филологической безответственностью и возможностью внести собственный скромный вклад в тезаурус российского беспредела. Читатель не ошибся бы, если, читая титульный лист, не обратил бы никакого внимания на уведомление «перевод с немецкого».