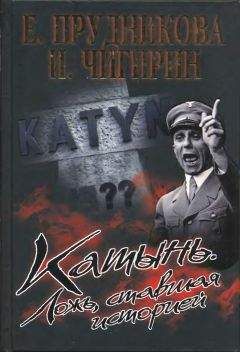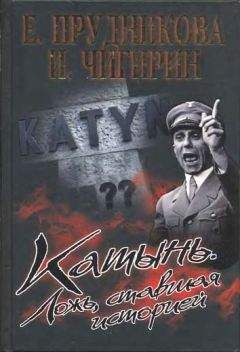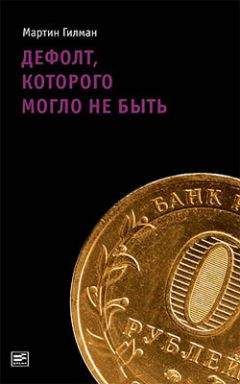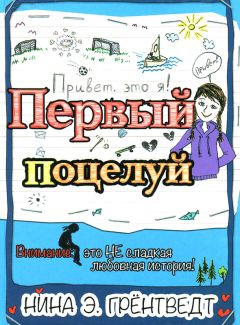Карен Свасьян - Европа. Два некролога
Обе книги, вышедшие, как было сказано, в 1996 и 1998 годах, стали завершающей — пятой и шестой — частью проекта «Первофеномены», издаваемого мною с 1994 года. Я счел нужным сохранить в русском издании примечания, указующие на остальные тома; речь идет о множестве тематических узлов, распутывание (или разрубание) которых предполагает знакомство с их тщательной «завязкой» в предыдущих выпусках. В целом это касается трехчастного изложения ключевых позиций духовной науки в последовательности философского, теософского и собственно антропософского становления[1]. Мне хочется в этой связи еще раз напомнить о том, что книги эти написаны антропософом, отношение которого к антропософии (не отягченное никаким «членством» и прочим «сором в избе»)определяется единственно фактором личной судьбы; если между повседневным бытом и философским бытием не существует иной связи, кроме языковой, так что некая логическая традиция воспрещает быть в быте (соответственно: бытовать в бытии), то среди всех прочих топосов философской дефектологии этому выпала участь едва ли не самого пагубного. Философски истинное всегда хотело быть общеобязательно истинным: argumentum ad veritatem без argumentum ad hominem, знанием без жизни, «эпистемологией без познающего субъекта»; напротив, сама возможность антропософии не теоретична, а персонально–эмпирична; антропософия выводит персональное существование не из мышления субъекта, а из его мыслимости, параллельно: его волей к мышлению она ка- узирует его персональное бытие. Мыслю, следовательно, существую, переводится на антропософский как: мыслим, следовательно, существую, параллельно: мыслю, чтобы быть. Ибо одно дело жить милостью естественной истории творения, деля эту милость с мошкарой и дождевыми червями (сравнения значимы не сами по себе, а в демократическом спектре проблемы), другое дело жить, не унижая себя до жизни, после того как не нашел в ней смысла: большего, чем оторванные календарные листки. Третьим было бы именно: жить ради смысла жизни, большего, чем сама жизнь, даже если осмысливать пришлось бы абсурд, иначе: жить — не только как «мыслитель», но «вообще» — в мыслях. Очевидно, что в третьем случае «сатисфакции» можно было бы требовать не только за оскорбленную (скажем, сравнением с дождевыми червями) личную честь, но и за оскорбленную (ложными представлениями) честь мыслей.
Ну, как бы мы отнеслись к чудаку, прилюдно отвешивающему пощечину автору некой научной или философской книги как раз во время её презентации? И стал бы сам чудак оглашать на суде мотивы, побудившие его к «хулиганству»? Скажем, оправдывать свой поступок тем, что, будучи порядочным человеком (паскалевским honnete homme), он не мог же допустить, чтобы в его присутствии оскорбляли МЫСЛЬ. Нет сомнений, что последнее слово осталось бы тогда за психиатром, а не за судьей. Над мыслями можно глумиться, непрерывно, как угодно, безнаказанно, больше того: с видами на ученые степени; но попробуй назови носителей этих степеней разносчиками особо опасных вирусов, и тебя моментально зачислят «во враги». Либеральные горшки не так уж просты, как их малюют; нужно понаблюдать за ними однажды не в их оплеванной мимикрии, а когда они плюются сами, чтобы понять, как можно быть фундаменталистом, не имея под собой решительно никакого фундамента. Прямо как в фокусе с психиатрами, обходящимися без какой–либо души! В одном случае, отстаивают ценности, которые существуют лишь в той мере, в какой о них говорят. В другом, лечат то, чего нет, а если и есть, то не потому, что есть, а потому, что — лечат. Но: Ницше, страдающий от судьбы музыки, как от открытой раны, и психиатр, диагностирующий это признание как «синдром неадекватной реакции», — кто тут, собственно, болен? Буйно помешанный, сокрушающий всё, что попадается ему под руку, и профессор, несущий с кафедры вздор, который конспектируется и после сдается как экзамен, — кто тут, собственно, болен? Есть убийцы жизни, и есть убийцы смысла жизни; если первых казнят, а вторых цитируют, то отчего бы однажды не процитировать цитируемых устами казненных, чтобы убийство жизни не выглядело столь уж чудовищным на фоне «научно доказанной» или «художественно внушенной» бессмысленности жизни! — Антропософия, о которой идет речь (не антропософия антропософов, а антропософия Рудольфа Штейнера), есть не учение, теория, оккультизм или как бы это еще ни называлось, а умение жить в идеях, с не меньшей «жаждой жизни», чем в чувствах и ощущениях. Но жить в идеях и значит ведь: идеировать саму жизнь, знать, что жизнь есть мысль, жизнь мысли, мыслящей себя как жизнь. В этом сращении всегда универсальной мысли с всегда индивидуальной жизнью лежит возможность антропософии; гётевское: «Что такое общее? Единичный случай», читается антропософски как: «Что такое понятие человек? Единичный человек»[2]. Тот именно, в ком, на ком, по кому и опознается единственно quidditas человека. Разве не показательно, что «человек» в усилиях философской мысли находил себя либо над собой, в теологии, либо под собой, в зоологии, и никогда в себе самом, в антропологии! Антропология, не ставшая антропософией, есть и по сей день всё еще не суверенная дисциплина, а приложение к зоологии или теологическая сноска, где «нам» соответственно приходится узнавать себя либо в «Боге» либо в «обезьяне» (наиболее ловким удается и то и другое вместе). То, что «мы» по привычке или по инерции относим себя к «человекам», есть элементарное недоразумение, опровергнуть которое нам мешает лень или глупость. Недоразумение лежит в смешении индивидуального с биологической или социальной самоданностью; в моей биологической «человечности» я повинен не больше, чем в моем «гражданстве» — в том и другом случае речь идет об экземпляре рода, чувственно мультиплицированной differentia specifica мыслимого понятия. Но в биологическом человеке человека по определению так же мало, как мало его и в гражданине; человек — это событие ЧЕЛОВЕК; философски: идеальный тип, реализованный, однако, не в чистой мыслимости понятия, а как некто фактический, изживающий свой свободный от телесности дух не как «философию духа» в пропедевтической самоотчужденности, а как свое тело, или природу естествознания, и, значит, познающий природу и мир как «самого себя». Если нам» хватало бы философской гордости тяготиться ролью приживальщиков при биологическо–логическом родовом «человеке» (вот–вот впрыгнувшем в антропологию из питекантропологии), если бы мы ориентировались на какого–нибудь «одного из нас», смогшего то, на что «мы» настолько неспособны, что категорически отвергаем саму его возможность (Бог–выручалка теизма приходится тут весьма кстати, как некоторого рода метафизико–моральная надбавка за нашу духовную инвалидность), то у кого из нас повернулся бы язык назвать себя человеком — в присутствии ЭТОГО человека! Не говорят же в присутствии Гёте: я поэт — или в присутствии Кантора: я математик![3] В их присутствии как раз и учатся осознавать себя непоэтом или нематематиком. Но поэт или математик — лишь частные случаи ЧЕЛОВЕКА, перед явленностью которого равным образом учатся осознавать себя нечеловеком, что значит: выдавливать из себя социал–дарвинистическую бестию, свинствующую «низом» и требующую «верхом» прав человека для своего «низа». Человек — это становление к ЧЕЛОВЕКУ, который есть творец ЧЕЛОВЕКА, или САМОГО СЕБЯ: становление, начинающееся с умения осознавать себя нечеловеком, по аналогии со знанием, которое (сократически) начинается с знания о незнании; быть антропософом значит, в первом приближении, не поддаваться барочному соблазну cogito, ergo sum, a упражняться в нелегкой роли «человека», учащегося мыслить мыслящего его и вдыхающего в него свою душу творца, некоего Гёте, который пользуется своими дарами не для себя, а отдает их другим КАК СЕБЯ, чтобы и другие смогли однажды видеть идеи «глазами» или находить слова для «покоя над горными вершинами». В присутствии этого творца «мы» лишь становящиеся, или приближающиеся; на языке математики: погрешности, или приближенные значения ЧЕЛОВЕКА, с точностью до умения видеть в нем будущих «самих себя». Или, в противном случае, осознать себя вслед за честным Жан—Поль Сартром «бесполезной страстью» (кажется, уже и в самом деле бесполезной, непоправимо, без надежды на «а вдруг пронесет»). Ну, а если вдруг оказалось бы, что «пронесло» и на этот раз, что ж, тогда времени, отпущенного на передышку, могло бы хватить между прочим и для составления (даже в двойном варианте) «плача по Европе», некоего поминального списка с заключительным прозрением во всё еще возможное, хоть и совсем иное, будущее: когда–нибудь по факту нежелания считаться с творением Рудольфа Штейнера будут измерять всё ничтожество и всю чванливость эпохи с её духовными вождями, имеющими о духовности не больше представлений, чем гальванизированная лягушка о биоэлектричестве[4].