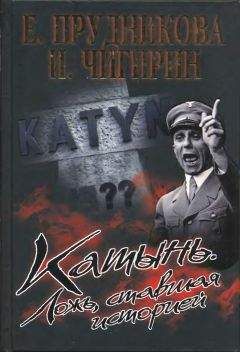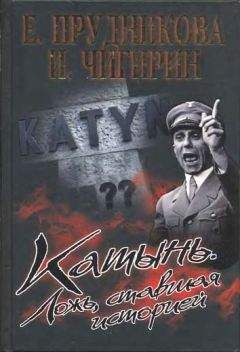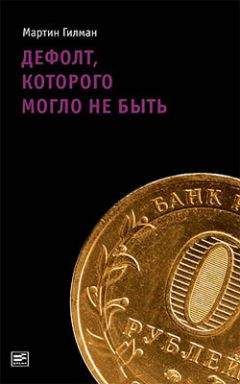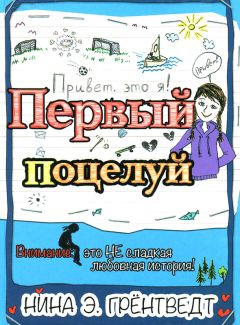Карен Свасьян - Европа. Два некролога
Ответ немецкого профессора философии[42]: истина постигается в мышлении. Мышление пси- хично. Психика субъективна. Субъективное фиктивно. Фиктивное ложно. Ложное есть заблуждение. Ergo, истина есть заблуждение. Первый синяк под глазом: отчего же тогда называть её истиной? Первый холодный компресс: оттого, что она не простое заблуждение, а целесообразное, т. е. сознательное, практическое, плодотворное. Второй синяк под глазом: но если всё есть фикция, значит, и заблуждение — фикция? Второй холодный компресс: так точно, но если истина — это целесообразная степень заблуждения, то заблуждение — это нецелесообразная степень фикции. В итоге: истина — это целесообразная степень нецелесообразной степени фикции… Коллеги с соседнего, теологического, факультета могли бы засвидетельствовать ловкому факиру понятий свою признательность. Где бы еще сподобилось им найти более убедительную возможность справиться наконец с досадным речением: «Я есмь Истина»!
Было бы опрометчивым считать аннулирование духа в 869 году чем–то большим, нежели элементарной апорией духа. Дух, отрицающий самого себя, есть тот анекдотический критянин, который, как известно, сделал себе философское имя с помощью ловкого утверждения, что все критяне лжецы. Вопрос: являются ли все критяне, помимо того что они лжецы, также и духовными существами или им, чтобы быть лжецами, вполне достаточно их тел и душ? Что, если депортировать всех критян с острова Крит в мир кантианца Файхингера? Тогда, прежде чем быть лжецами, им пришлось бы сперва вообще — быть. Вопрос: существуют ли критяне в самом деле или они существуют как если бы они существовали? Некто критянин произносит суждение: Все критяне суть как если бы критяне.
Второй критянин налагает на это суждение логическое вето, напоминая первому, что и он, будучи критянином, высказывает лишь как если бы суждение. Как если бы суждение о как если бы критянах, в числителе и знаменателе, взаимно погашают друг друга, дабы критяне в самом деле — были. Трюк файхингеровского духа состоит в том, что он, полагающий находить соринки фикции во всех глазах, не хочет видеть бревна фикции в собственном глазу. Ему пришлось бы тогда смириться с тем, что, если дух отрицает дух, он делает это именно как дух, стало быть всего лишь утверждая себя самоотрицанием, от какового утверждения в итоге сильно попахивает престидижитаторством или просто мошенничеством.
Отрицатели духа в Константинополе, вкупе с их христианско- атеистическими наследниками, лишь в том случае имели бы шанс выйти логически, да и фактически сухими из воды, если бы им было под силу упразднить дух не только теоретически, но и последовательно практически, что значит: им пришлось бы уже не отрицать дух путем долгих словопрений, а просто стать самим идиотами в клиническом смысле слова. «Дыр бул щир. Аминь…». Может статься, что год Божий 869‑й заслуживал бы всего лишь сострадания мира, сумей «критяне», прошу прощения: «философы», додуматься до ясной, как солнце, мысли, что решение, принятое в Константинополе, принадлежало сотне–другой психически больных и невменяемых священников, навязавших его затем христианскому миру. Может статься, что в таком случае не пришлось бы дожидаться XX века, в котором теория бездуховности нашла наконец подтверждение в праксисе бездуховности. Час рождения дадаизма можно было бы датировать тогда не цюрихским 1918 м, а константинопольским 869 годом, к тому же в Соборе Святого Духа, где ровно 584 года спустя всемогущему Аллаху воздалось то, что было отнято у христианского Бога.
Если верно слово, что Бог лишает разума того, кого он хочет погубить, то позволительно утверждать, что 869 год в Константинополе (как тень года 666 в Гондишапуре) оказался ящиком Пандоры западной культуры. Несчастье разразилось с момента, когда сверхчувственное было отнято у познания и отдано вере, а познанию велено было ограничиться только чувственным. Из двух комплементарно сосуществующих членов человеческого существа душе досталась вера, а телу — познание. Мы увидим, на какой ад отверженная христианская плоть была осуждена «божественной» душой. Мы увидим также, к какому возмездию привело это в позднем безбожном материализме, который не оставил возвышенной душе иного выбора, как отречься от трона и довольствоваться ролью переменной зависимой телесных функций. «Mind is, what body does»[43].
4. Что делает тело в нашем мышлении!
Добрый (к тому же философски осведомленный) христианин способен вычитать из цитированной формулы бихевиориста Уотсона («Дух есть то, что делает тело») не больше чем вздор. Характерно для него, впрочем, не это, а то, что бесстыдному вздору Нового Света он предпочитает более церемонный вздор Старого Света, согласно которому не душа (с повадками духа) есть то, что делает тело, а как раз наоборот: тело есть то, что делает душа (с повадками духа). Говоря в салонном стиле XIX века: тело — это рояль, душа — это пианистка. Суть дела, однако, вовсе не в том, опровергается ли означенный вздор (в обеих версиях) логически или как–то еще, а в том, насколько возможно осмыслить его в корне. Допустив, что мы не настолько наивны и самоуверенны, чтобы отрицать материализм, но и не настолько же одурачены им, чтобы не спрашивать, где лежат его корни? Еще раз: как можно ухитриться отрицать духовное? Больше того: верить в это отрицание! Если бы мне взбрело в голову преподать моему соседу урок номинализма и я начал бы с утверждения, что деньги, лежащие в его кармане, — чистая иллюзия в добром файхингеровском смысле (на что, между прочим, со всей недвусмысленностью указывает гений немецкого языка в слове Geldschein), то первое, что пришло бы в голову ему, было бы, что у меня не всё в порядке с головой или что я просто (неудачно) пошутил. Когда же сам он, ни глазом не моргнув, утверждает, что не существует никакого духа, ему никак не приходит в голову усомниться в порядке собственной головы или смотреть на себя как на шутника. Ибо кто же, если не шутник, говоря, что нет никакого духа, а есть только телесные отправления, не удосуживается спросить себя: каким это образом из названных отправлений тела, скажем, из недержания мочи или кишечных вздутий, складывается некое осмысленное предложение, ну хотя бы фраза о том, что нет никакого духа? — Нужно было быть плоским, как Локк, чтобы объяснять духовное через tabula rasa, даже не подозревая о том, сколько кармических перьев было обломано при заполнении этой чистой доски, прежде чем стало возможным записать на ней и следующее признание: душа по природе своей есть нечто вроде незаполненного формуляра! Вопрос философу Локку: значимо ли это положение и для души философа Локка?
Или философ Локк в привилегированности своего британского гражданства запамятовал свое «критское» происхождение? Все критяне суть (душевно) чистые доски. Вопрос: что есть (душевно) «критянин» Локк? И чем же, если не недоразумением, могло быть «заполнено» само локковское толкование душевно–духовного как «незаполненного» формуляра? Жозеф де Местр резюмирует казус Локка: «L'homme ne peut parler; il ne peut articuler le moindre element de sa pensee; il ne peut dire et, sans refuter Locke»[44]. Локковская философия чистой доски есть философия начисто отшибленной памяти; он просто не помнил, чему и кому он обязан своими суждениями! — Не меньшая нелепость, с другой стороны, опровергать материализм через окуляр идеализма или спиритуализма? Материализм нуждается не в опровержении, а в додуманности. Чем он страдает, так это не незнанием того, что есть идея, а незнанием того, что есть материя. И если он выигрывает, то не в последнюю очередь и оттого, что его критикует идеалист и спиритуалист.
Спиритуалистическая критика материализма означает: ушедший на пенсию мастер Люцифер тренирует будущего аса Аримана. Но додумать материализм и значит: удостоверить его спиритуалистическую родословную. Вскрытие уотсоновской фразы: «Дух есть то, что делает тело» — показывает, что фраза страдает затяжной наследственной болезнью. Её римско–католический анамнез не может ускользнуть от внимания, хотя по характеру её активности можно было бы заключить и к специфически протестантской выучке. Tabula rasa бихевиориста Уотсона оттого и выглядит столь незапятнанно белой, что исписана она симпатическими чернилами. Мы знаем, что и чернильница философа, если он (по–лютеровски) не швыряется ею в проблемы, но (по–кантовски) обмакивает в нее проблемы, может вполне и сама оказаться проблемой. Разве не немецкий профессор философии Адикес (в шестьсот шестьдесят шестой раз) удивил видавший виды ученый мир, дойдя в своих кантовских штудиях до необходимости анализа чернил, которыми были сделаны те или иные заметки Канта! Argumentum ad tinctam aquam. Уже несравненный Шопенгауэр указал на связь между чернилами и мыслью, сопоставив французский оборот: C'est clair comme la bouteille a l'encre (ясно как густые чернила) с английским: It is like German metaphysics. Если верно старое слово, что дьявол — обезьяна Бога, то немецкий дьявол в своей фронде немецкому Богу допускает сравнение не с обезьяной, а разве что с необыкновенно аккуратным, но копающим совсем «не туда» кротом. Нельзя же, в самом деле, чтобы научная добросовестность доходила до черты, за которой симпатические чернила, причем в пневматософ- ском контексте, не отличались бы от чернил обыкновенных — хотя по этому признаку и выдает себя Sexta Colonna[45]… Не будь материалист Уотсон просто философски безграмотен, а значит, незакомплексован, обладай он хоть толикой осведомленности профессора Адикеса, ему пришлось бы датировать свое proud to be a Materialist христианским годом 869 в Константинополе, что, по–видимому, потрясло бы его не меньше, чем какого- нибудь закоренелого антисемита документ, свидетельствующий о его еврейском происхождении. Аналогично обстояло бы и с его христианским оппонентом, который, будь он не только академически образован, но и христиански честен, должен был бы, пусть с тяжелым сердцем, зато с ясной головой, признать легитимность приведенной выше экспертизы.