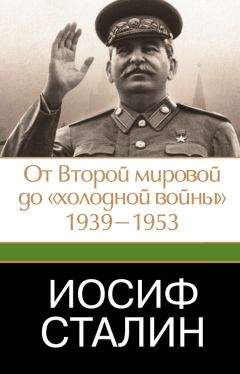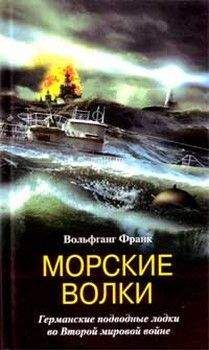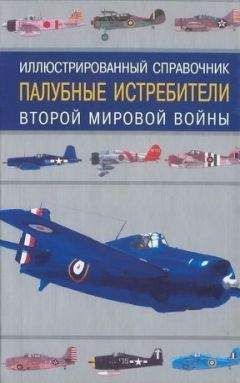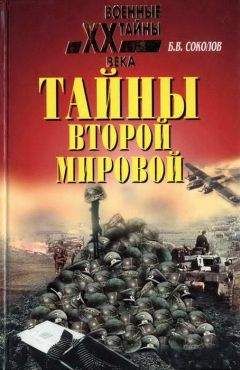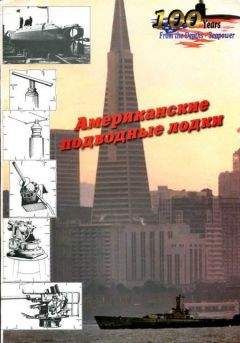Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
В конце 1920-х годов в Германии сложилась очень непростая финансовая ситуация. Немцы с готовностью брали американские кредиты, а янки с радостью их предоставляли, хотя в обеих странах присутствовало понимание опасности продолжения подобной практики. Джилберт и Шахт добились даже создания в Германии правительственного Совета по иностранным кредитам, без одобрения которого муниципальные заемщики не могли их брать. Одобрение Совета означало, что правительство берет на себя ответственность за кредит. Поначалу новому органу удавалось блокировать некоторые крупные займы, но муниципалитеты очень быстро нашли способы обходить Совет. Придуманная ими схема позволяла считать заимствования внутренним, а не зарубежным делом. Действовала она так. Город формально брал взаймы у родного немецкого банка, а взамен передавал ему городские облигации, которые немецкие банкиры тут же размещали за рубежом, чаще всего в Голландии, откуда ценные бумаги попадали уже в Америку, выступавшую их конечным бенефициаром. Если дело о подобном заимствовании попадало в Совет, городские власти обычно делали круглые глаза и уверяли, что были не в курсе иностранного происхождения денег 87. Другая схема предполагала создание частных компаний с городским участием. Тогда получалось, что кредит формально берет частная фирма, хотя в конечном итоге львиная доля получаемых средств оседала на муниципальных счетах. Так, например, из 6 миллионов марок, взятых в кредит одной люнебургской компанией, 3,9 миллиона достались городским властям Люнебурга 88.
Подобных примеров было множество. И Совету по иностранным кредитам приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы докапываться до истины, разрешать одни заимствования и запрещать другие, выдерживая при этом жесткое давление со стороны Рейхсбанка, требовавшего запретить все муниципальные займы. Пойти на такое кардинальное решение правительству было непросто. Муниципальные заимствования имели, как правило, социальный подтекст, и их отмена могла привести к осложнениям в регионах. Шахт и Джилберт рассуждали с точки зрения оздоровления финансов Веймарской республики и согласованной с Союзниками схемы уплаты репараций. Любое германское правительство должно было, кроме этого, иметь в виду еще и вопросы внутренней ситуации в стране. Поэтому вместо полного запрета кабинет определил лимит на муниципальные займы, установив его верхнюю планку на 1928 год в 350 миллионов марок 89. О том, насколько важно это было для правительства, говорило письмо германского министерства иностранных дел в посольство в Вашингтоне, где послу предписывалось разъяснить американцам, что «мы принимаем на себя ответственность за то, что возврат кредитов не помешает выплате репараций» 90, хотя правительству очень не хотелось связывать себя подобными обязательствами.
Другим рискованным сектором кредитования в Веймарской республике было сельское хозяйство. Несмотря на очевидную убыточность большинства фермерских, прежде всего крупных, хозяйств, германские экономисты, а вслед за ними и американские финансисты полагали, что аграрный сектор призван сыграть решающую роль в оздоровлении немецкой экономики. В результате к 1929 году в сельское хозяйство Германии была вложена гигантская сумма в 7,5 миллиардов марок. Лишь 1,5 миллиарда из них продолжали работать, а остальные 6, по признанию германского министра сельского хозяйства Мартина Шиле, «исчезли навсегда, растворились в плохих урожаях, огромных и неблагоприятных инвестициях, чрезмерных процентных ставках» 91. Тем не менее фермеры продолжали настаивать на новых финансовых вливаниях. В условиях постоянного роста сельскохозяйственной задолженности правительство во многих случаях старалось закрывать глаза на требования аграриев, чем успешно пользовались нацисты. Когда в 1928 году в Вестфалии начались волнения фермеров, занимавшихся разведением скота (причиной стало резкое повышение тарифов на ввозимые корма), нацисты были единственными, кто учел в своей программе требования крестьян. Протесты в Вестфалии носили массовый характер. В отдельных акциях участвовали до 100 тысяч человек, но ни одна партия не обратила на это серьезного внимания. А рвущиеся к власти нацисты включили требования фермеров — введение выгодных тарифов, освобождение от налогов, дешевые кредиты и другие — в свою агитацию 92. Недаром германские крестьяне составляли значительную часть членов и электората НСДАП.
В 1929 году Соединенные Штаты приостановили выдачу долгосрочных кредитов Германии. Собственно говоря, процесс сворачивания кредитования начался годом раньше, когда американцы, стараниями Джилберта, стали постепенно осознавать опасность продолжения рискованной финансовой политики. В значительной степени такому повороту способствовала потеря ликвидности явно переоцененных германских бондов, выпускавшихся в обеспечение кредитов. Уже тогда перед многими германскими заемщиками неожиданно возникли трудности. Немцы успели привыкнуть к дешевым американским кредитам, и теперь, чтобы выкрутиться, стали прибегать к дорогим и краткосрочным внутренним и европейским заимствованиям в надежде, что ситуация с бондами стабилизируется и все вернется на круги своя. Но этого не происходило. В европейских столицах и в Вашингтоне ожидали начала финансового кризиса в Германии и сильного роста ставок в германском банковском секторе. Подобного развития событий в 1929 году удалось избежать, но в основном за счет наступившей рецессии в германской экономике. Так или иначе, но к 1929 году многим стало очевидно, что без ущерба для собственной экономики выплачивать одновременно репарации в установленном объеме и проценты по займам Германия не сможет. В графики и размеры платежей надо было вносить коррективы. Основными всегда считались репарационные платежи. От них зависело спокойствие и финансовая стабильность в Европе. С выплатой репараций самым тесным образом было связано погашение союзнических долгов Соединенным Штатам. И все эти платежи во многом обеспечивались американскими кредитами Германии. Теперь всю схему необходимо было пересматривать.
Хозяевами положения оставались американцы. Рычаги финансового воздействия на Европу были по-прежнему в их руках. В Германии надеялись, что США помогут снизить или отложить репарационные выплаты, а Англия и Франция, как обычно, хотели пересмотреть собственные военные долги американцам. Свою позицию Соединенные Штаты обозначили еще весной 1928 года, задолго до начала финансового кризиса. Она была предельно прагматичной. Джилберт откровенно признался английскому послу в Берлине Рональду Линдсею, что Америка не допустит сокращения выплат по военным долгам, несмотря на финансовые проблемы Германии. Сокращение доходности германских бондов, заявил он послу, «затронет интересы всего пары сотен тысяч их (американских) держателей», хотя и вызовет много шума. Широкое общественное мнение в США гораздо больше волнует «регулярное погашение долгов европейскими правительствами, поскольку этот вопрос касается миллионов (американских) налогоплательщиков» 93. Джилберт ясно давал понять, что Америка гораздо меньше озабочена проблемами частных займов Германии, чем государственными долгами стран Антанты. Накануне предстоявших осенью президентских выборов, когда сокращение налогов было одной из главных обсуждавшихся в Америке тем, другой позиции было трудно ожидать. В то же время Джилберт не исключал возможной корректировки плана Дауэса, поскольку реально представлял себе грядущие финансовые трудности Германии, которым сами же Соединенные Штаты в немалой степени способствовали. Английский посол попробовал было завести речь о «компенсации со стороны Америки за те жертвы, которые понесут европейцы», и напомнил об «увеличении налогового бремени британских плательщиков», но на Джилберта это не произвело никакого впечатления. «Если вы будете дожидаться перемен в американском общественном мнении, — сказал он послу, — вам придется ждать много лет, и даже тогда оно вполне может поменяться в худшую для вас сторону» 94. Деваться Англии и Франции было некуда. Им приходилось принимать американские правила игры.