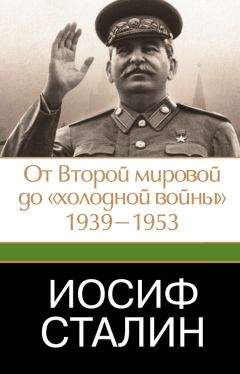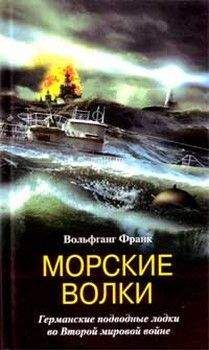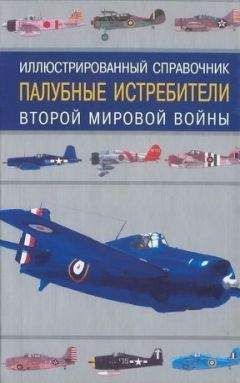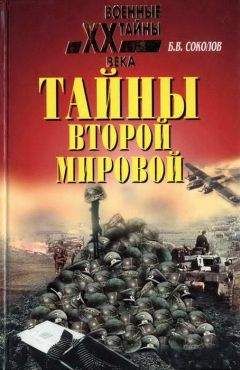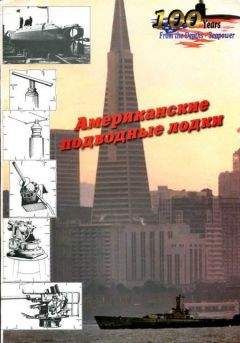Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
В глазах многих немцев Гинденбург сам являлся «эрзац-кайзером и отцом “осиротевшего поколения”» 71. И он это понимал. Гинденбург готов был включить в свою формулу «народного единства» даже социалистов. Когда он давал согласие баллотироваться, то сразу предупредил, что не будет инструментом в руках какой-либо одной партии 72. За бортом его Volksgemeinschaft оставались лишь те, кто выступал вместо социального мира за классовую борьбу, то есть коммунисты. Столь широкий круг единения вызывал неприятие у правых. Вскоре после избрания Гинденбурга многие из них стали выражать открытое недовольство позицией престарелого фельдмаршала. Действительно, во внутренней политике Гинденбург соблюдал осторожность и не поддерживал никаких идей о реорганизации структуры власти, а во внешней — оказывал всяческое содействие курсу Штреземана на сближение Германии с Западом и полноправное участие в Лиге Наций.
Здесь необходимо пояснить, что понятие «правые» в политической жизни Веймарской республики носило несколько размытый характер. Традиционно правый фланг германской политики того времени выстраивался так (справа налево): Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), Немецкая национальная народная партия (НННП), Баварская народная партия (БНП), Немецкая народная партия (ННП), Немецкая демократическая партия (НДП) и Партия Центра 73. Две последние партии обычно считаются правоцентристскими, но в сторону центра по ряду вопросов могли дрейфовать и возглавляемая Штреземаном ННП, и католическая БНП. Без каких-либо оговорок «правыми» партиями считались лишь НСДАП и НННП, которые незадолго до конца Веймарской республики даже создали между собой недолго просуществовавшую коалицию. Именно с их стороны исходила основная критика Гинденбурга и Штреземана. Хотя и внутри «чисто правых» партий не существовало единства. НННП, например, заклеймила репарационный план Дауэса как «второй Версаль», что не помешало почти половине ее депутатов в рейхстаге проголосовать за изменения в Веймарской конституции, без которых этот план был неосуществим. И это несмотря на то что лидеры партии стремились продемонстрировать единую и твердую позицию, от которой затем можно было бы дружно отойти, чтобы добиться мест в коалиционном правительстве Штреземана 74. Еще более любопытная ситуация сложилась после того, как НННП вошла в первый коалиционный кабинет Ганса Лютера в январе 1925 года, то есть времени начала переговоров о будущем Локарнском соглашении. Немецкие националисты вынуждены были фактически прекратить всякую публичную критику политики Штреземана. Их позиция явно сдвинулась в сторону центра, хотя в самой партии предпочитали рассуждать о том, что это Штреземан движется в их сторону 75. Правда, в конце 1925 года НННП покинула коалицию, протестуя как раз против Локарно.
Противоречия внутри партии привели в 1929 году к ее расколу, когда покинувшие националистов умеренные политики образовали недолго просуществовавшую Консервативную народную партию. Целью нового формирования, как писал один из его основателей граф фон Вестарп, было «создание национальной правительственной буржуазной партии, которая разместилась бы между национальными социалистами, с одной стороны, и Партией Центра и социал-демократами, с другой» 76. На правом фланге германской политики, как и среди левых партий, происходило брожение и размежевание 77. Такая ситуация являлась следствием демократичности не только всей политической системы Веймарской республики, но и большинства крупнейших партий в стране. Свободная борьба идей внутри общества приводила к формированию неустойчивых политических объединений, которые на разных этапах могли сближаться, но также могли и размежевываться, образуя новые, независимые партии. Иногда успех политической партии зависел исключительно от популярности ее лидера, с уходом которого партия начинала стремительно терять избирателей. Так произошло, например, с Немецкой народной партией после смерти Густава Штреземана в 1929 году. Вполне вероятно, что со временем подобная аморфная структура германской политической системы приобрела бы более четкие и устойчивые формы с 4-5 сильными партиями, принципиально различающимся по своим идеологиям, но Веймарской республике не хватило отведенного историей времени на подобную трансформацию.
В конце октября 1929 года в Америке разразился экономический кризис. По странной случайности он возник всего через три недели после смерти Штреземана, который в течение нескольких предшествовавших лет олицетворял собой стабильность и процветание Веймарской республики. Кризис начался с обвала курса биржевых акций на Уолл-стрит и быстро распространился на крупнейшие банки, промышленные компании и аграрный сектор Соединенных Штатов. Споры о причинах этого кризиса, получившего название «Великая экономическая депрессия», ведутся до сих пор, но его анализ не входит в задачи данной книги. Для рассматриваемой темы гораздо важнее понять, что этот кризис привел, в конечном итоге, к краху Веймарской республики. Кризис вскоре перекинулся на европейский континент и сильнее всего поразил экономики тех стран, которые были теснее других связаны с американскими финансами. Прежде всего это касалось Германии.
Соединенные Штаты приложили немало усилий для решения послевоенной проблемы репараций в Европе. План Дауэса помог вернуть Германию в мировую экономическую систему и организовать приток американского капитала в экономику бывшего противника. Придуманная американцами схема отличалась известным изяществом. Вливание американских кредитов в германскую экономику помогало немцам выдерживать график уплаты репараций Англии и Франции, которым, в свою очередь, было проще погашать союзническую задолженность перед Соединенными Штатами. Недаром Штреземан признавал в рейхстаге, что американцы являются «нацией, прилагающей наибольшие усилия для реорганизации (германской) экономики, а помимо этого, для умиротворения всей Европы» 78. В этой схеме, правда, таилась и опасность. Перегретая американскими денежными вливаниями германская экономика должна была возвращать не только репарации, но и взятые кредиты, которые, наряду с военными долгами и репарациями, становились «третьим элементом» 79 в сложной системе послевоенных финансовых расчетов. В какой-то момент вся схема могла лопнуть. Поэтому не все американские банки изначально проявляли желание участвовать в ней. К «несговорчивым» финансистам относилась, например, крупнейшая банковская группа США во главе с Морганами, которая публично объявила, что ограничит свою активность в Германии выполнением финансовых обязательств перед странами Антанты 80. Однако дальнейшее развитие событий вовлекло и этих банкиров в кредитование немецких проектов.
Эти проекты, кстати, часто носили социальный характер, что вообще ставило под сомнение их окупаемость и, соответственно, возврат денег. Особенно много социальных проектов было среди муниципальных заимствований. В разных городах за счет общественных фондов не только модернизировались, скажем, линии электросетей, но строились также новые жилые здания, больницы, театры, спортивные сооружения. В начале 1928 года в Соединенных Штатах находились на рассмотрении 235 муниципальных заявок из Германии на предоставление кредитов на общую сумму в 1,5 миллиарда марок 81. Как ни странно, главными противниками финансирования подобных объектов выступали не сами кредиторы, а немецкие банкиры. Ялмар Шахт видел в них социалистические тенденции и считал обузой для экономики Германии. Он даже придумал для нового явления особый термин — «холодная (пассивная) социализация» (Kalte Sozialisierung) 82. Позже, придя к власти, нацисты ловко воспользовались теми социальными достижениями, основы которых были заложены еще в Веймарской республике.
Первым среди американцев, еще в конце 1927 года, забил тревогу молодой, но очень способный финансист, уполномоченный по репарациям Паркер Джилберт. Он испугался, что отягощенная необходимостью погашения американских кредитов германская экономика перестанет выплачивать репарации, и предложил капитализировать их в репарационные бонды, которые смогли бы приобретать американские инвесторы 83. В течение двух лет Джилберт пытался достучаться до «безрассудных», как он их называл, американских банкиров. Но нашел понимание лишь в Государственном департаменте, который занял, однако, двусмысленную позицию. Помощник государственного секретаря США Уилбур Карр попросил американского посла в Германии Джейкоба Шурмана обратить внимание германского правительства на то, что Америка «может оказаться вынужденной, как с точки зрения собственных интересов, так и ситуации в целом, серьезно рассмотреть меры по контролю над бездумными заимствованиями» 84. Действительно, в получившей доступ к американским финансам Германии кредиты с готовностью брали все, включая отдельные немецкие города и земли. И американские банкиры в большинстве случаев предоставляли их. Госдеп США прекрасно понимал, чем это может закончиться. Но пикантность ситуации состояла в том, что решительно воздействовать на собственных финансистов американские дипломаты не стали. Они предпочитали вести речь о «бездумных заимствованиях», но не о «бездумном кредитовании», и старались противодействовать исключительно «социальным кредитам» 85. Американский посол Шурман пытался отделить «социальное» кредитование от «производственного». Он предостерегал Вашингтон, что «предоставление значительных кредитов германским муниципалитетам приведет германскую экономику к катастрофе» 86. Но ничего не говорил о кредитах германскому бизнесу. Никто в США до начала Великой экономической депрессии не хотел подвергать сомнению банковские программы зарубежных инвестиций.