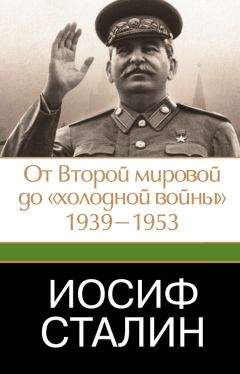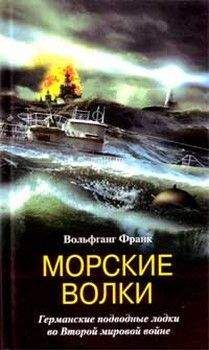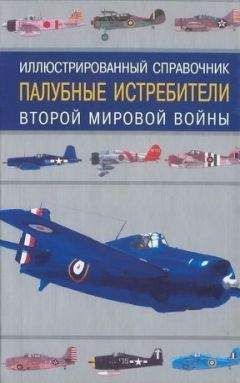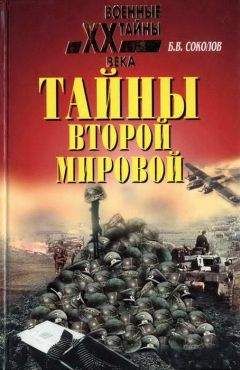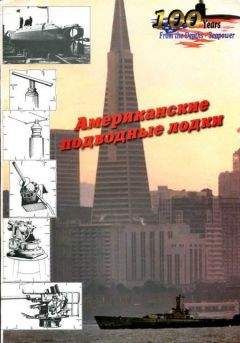Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
Эта пауза затянулась на два года. Французы уперлись и не желали слышать ни о каких подвижках. В условиях, когда общественное мнение в стране по-прежнему видело в Германии главного врага и опасалось возрождения ее боевой мощи, оккупация Рейнланда рассматривалась французами как наиболее действенный способ обеспечения своей безопасности, равно как и гарантия выплаты германских репараций. Не помогла даже историческая встреча Пуанкаре, в очередной раз возглавлявшего правительство, и Штреземана. Она состоялась 27 августа 1928 года в Париже, куда германский министр прибыл для участия в подписании многостороннего пакта Бриана-Келлога. Это соглашение объявляло войну вне закона и в этом смысле являлось дальнейшим развитием послевоенной пацифистской мысли, истоки которой следует искать в борьбе вокруг формулировок Устава Лиги Наций и Женевского протокола. Мысль эта двигалась весьма своеобразно — от сложного к простому. При обсуждении Устава Лиги Наций мировые лидеры пытались не только ликвидировать войны, но и определить меры ответственности и последующего коллективного наказания возможных нарушителей мирового спокойствия. Добиться этого в полной мере тогда не удалось, и Америка предпочла остаться за бортом Лиги в значительной степени из-за нежелания быть втянутой в европейские конфликты помимо своей воли. Женевский протокол 1924 года, предлагавший запретить войны, также не смог решить тех задач, которые изначально ставили его создатели и сторонники. И также благодаря своей «сложности». Державы не смогли достичь взаимопонимания в вопросах арбитража, санкций и разоружения, составлявших суть протокола. Пакт Бриана-Келлога стал третьей серьезной попыткой мирового сообщества поставить войны вне закона, и он оказался удачливее двух предыдущих.
Своему успеху Парижский пакт, как его иногда называют, был обязан, прежде всего, «простоте» и беззубости своего содержания. Изначально проект соглашения был подготовлен Брианом для отказа от войн в двустороннем формате — между Францией и Соединенными Штатами. В ответ американцы предложили сделать договор универсальным. И тут Бриан наступил на те же «грабли», что и его предшественники. Даже в «упрощенном» варианте, который Бриан соглашался сделать многосторонним, он оставлял «в законе» оборонительные войны и войны под эгидой Лиги Наций и Локарнских соглашений, а также объявлял, что новый пакт не затрагивает уже существующих обязательств 112. Французский посол в Вашингтоне и поэт по совместительству Поль Клодель, который передавал в американский Госдеп полученный из Парижа текст, посчитал проект глупым и обозвал его «головкой сыра», рифмуя с фамилией юриста Кэ д’Орсе, который готовил документ (Henry Fromageot — fromage) 113. Госсекретарь США Фрэнк Келлог без лишних разговоров убрал из документа все «лишнее». Две главные статьи пакта, которые он оставил в итоговом варианте, фиксировали «осуждение» войны и отказ от нее во «взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики» (ст. 1), а также обязательство решать все споры и конфликты мирными средствами (ст. 2). Такие общие и расплывчатые формулировки согласились подписать практически все существовавшие на тот момент государства, что сделало документ поистине всеобщим. Хотя и здесь не обошлось без критических высказываний. Советский Союз, например, присоединился к пакту 6 сентября 1928 года, спустя десять дней после подписания документа пятнадцатью государствами в Париже. При этом руководители советской внешней политики по привычке усмотрели даже в столь куцем документе «стремление сделать из него орудие изоляции и борьбы против СССР» 114. Правда, на это никто уже не обращал внимания — к подобной риторике большевиков, рассчитанной прежде всего на внутреннее потребление, в мире начали привыкать.
Пакт Бриана-Келлога пригодился на Нюрнбергском процессе, когда англичане, среди прочего, обвинили нацистских вождей в его нарушении 115. В 1928 году немцы были одними из первых, кто согласился с американским проектом пакта. Они не высказали никаких замечаний или дополнений к его тексту. Лишь попросили уточнить ряд моментов. Их интересовало, например, как быть с оборонительными войнами? На это у американцев давно существовал готовый ответ, относивший оборонительные войны к неотъемлемому праву любого суверенного государства. Готовность Штреземана подписать документ выглядела тогда поспешной по любым дипломатическим меркам. Получив 23 апреля из американского посольства в Берлине проект пакта, Штреземан уже через четыре дня ответил согласием. Когда в начале мая Остин Чемберлен попросил Штреземана повременить с германским ответом, предлагая предварительно обсудить его с англичанами, он с удивлением узнал, что германское правительство уже одобрило положительный ответ Вашингтону и вопрос не может быть отложен 116. С одной стороны, такая поспешность говорила о желании Германии продемонстрировать полную солидарность с Америкой, а с другой — показывала скептическое отношение немцев к составленному в самых общих выражениях тексту. «Это один из тех вопросов, на которые нормальный человек не может дать отрицательный ответ, — рассуждал тогда Штреземан о всеобщем мире. — Но как и все, имеющие отношение к совести вопросы, на которые есть лишь один ответ, его моральная значимость гораздо выше практической ценности... И все же такой пакт надо заключать. Чем чаще люди будут говорить о мире, тем скорее они начнут думать о нем» 117.
Германия была в числе тех пятнадцати государств, которых пригласили в конце августа в Париж для торжественного подписания пакта. Это говорило о возросшем влиянии Веймарской республики в мире (Советский Союз, например, такого приглашения не получил). Штреземан, несмотря на то что был к этому времени уже серьезно болен и проходил курс санаторно-восстановительного лечения, не послушал категорических возражений врачей и поехал в Париж сам. Безусловно, он хотел, чтобы весь мир увидел новое лицо возрождающейся Германии. Но, пожалуй, еще важнее для него было встретиться с Пуанкаре и обсудить с ним лично вопросы вывода оккупационных войск из Рейнланда и уплаты репараций. Тем более что незадолго до этого Пуанкаре неожиданно объявил, будто именно он был инициатором встречи в Туари 118. Подписание пакта поэтому представлялось Штреземану отличным шансом для возврата к достигнутым двумя годами ранее договоренностям.
Встреча старых противников проходила необычно. Врач Штреземана дал своему пациенту всего один час на переговоры, и сам сел в приемной Пуанкаре, чтобы оказать, если понадобится, врачебную помощь, или прервать встречу, если она затянется. В итоге после часа и пятнадцати минут разговоров, видя, что встреча продолжается, врач настоял на ее завершении, хотя беседа к тому времени была в полном разгаре. Что касается самого разговора, то стороны не услышали друг от друга ничего нового. Пуанкаре повторил старый французский тезис о том, что оккупация является единственной весомой гарантией германских платежей. Интересно, что когда в апреле немецкий журналист спросил Пуанкаре, возможен ли вариант, при котором французы выведут свои войска из Рейнланда и введут их снова, если немцы прекратят платежи, французский премьер эмоционально ответил: «Никогда!. После эвакуации войск повторная оккупация означала бы поджог фитиля у бочки с порохом» 119. Штреземан, читавший это апрельское интервью, не задавал подобных вопросов. Он старался убедить своего собеседника в искренности намерений Германии платить и отсутствии у нее каких-либо стремлений к реваншу 120. Но у Пуанкаре был свой план, согласно которому эвакуация должна была проходить постепенно, по мере продажи Германией репарационных бондов и получения денег Францией 121. Встреча, несмотря на доброжелательную атмосферу, завершилась безрезультатно. Теперь у немцев не осталось сомнений в том, что проблему репараций необходимо коммерциализировать и полностью отделить от освобождения территории Рейнланда.
К этому выводу пришли и англичане. Чемберлен оказался в непростой ситуации. Сохранение английских оккупационных сил в Рейнланде вызывало острую полемику дома. Лейбористы в парламенте постоянно требовали вывода английских войск, что доставляло Чемберлену массу неудобств. Параллельно на него наседали немцы, требуя того же. Чемберлен просил Тиррелла как-то повлиять на французов, сделать их позицию более сговорчивой, но английский посол в Париже отвечал, что только принятие такой схемы уплаты репараций, «которая обещает стать окончательной, снимет возражения французов против полной эвакуации Рейнланда» 122. В конце января 1929 года Филипп Бертло прямо заявил Тирреллу, что «ни одно правительство (Франции) не сможет эффективно решить вопрос (вывода войск), пока не будет убрана проблема репараций», после устранения которой «эвакуация последует почти автоматически» 123. Чемберлен не хотел прибегать к одностороннему выводу английских войск, но считал, что «целью нашей политики является и должно быть выдворение французов (из Рейнланда)» 124. Не испортив отношения с Парижем, сделать это было невозможно, и Чемберлену оставалось неуклюже объяснять Штреземану и Шуберту, что «немедленным результатом вывода английских войск станет невозможность для Британского правительства оказывать какое-либо влияние на Францию, чтобы заставить ее вывести свои войска» 125. Штреземану приходилось делать вид, что он согласен с этими доводами 126, хотя он прекрасно понимал, что у себя дома Чемберлен использует его молчание как оправдание собственного бездействия 127. Пока же немцы, как англичане и французы, соглашались ждать окончательного решения вопроса репараций в надежде на то, что такое решение поможет, наконец, разрубить «гордиев узел» и отделит выплаты от эвакуации.