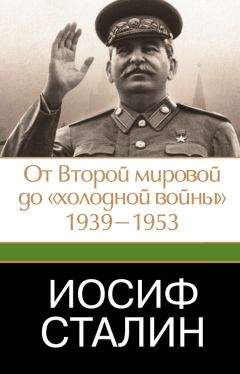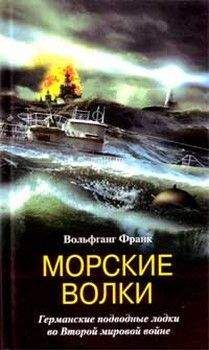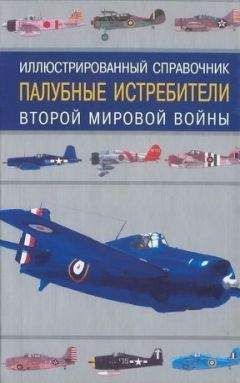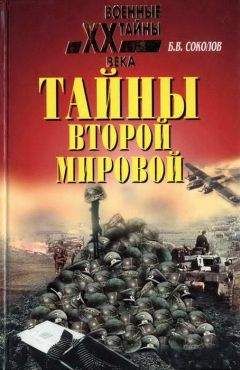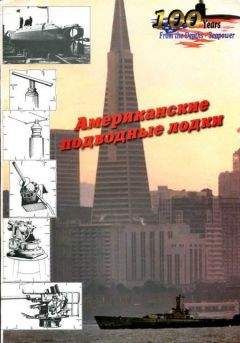Происхождение Второй мировой войны - Тышецкий Игорь Тимофеевич
Еще через два дня Рамболд сообщил в Лондон, что на встрече с членами кабинета Шахт стоял на своем — Германия не может платить больше 1,65 миллиарда золотых марок в год 145. Глава Рейхсбанка опять блефовал. Он готов был уступить странам-кредиторам, но не хотел делать это по собственной инициативе. Шахт ждал решения правительства. Тогда никто не смог бы упрекнуть его в том, что он «сдал Германию в лапы международного капитала», как любили выражаться коммунисты и нацисты. Американские эксперты еще в марте отмечали стремление Шахта переложить всю ответственность на германское правительство 146. Однако кабинет также не хотел брать на себя ответственность за принятие решения. Министры лишь требовали от Шахта достичь согласия на переговорах. Помогли разрешить ситуацию американцы, которым очень не хотелось провала конференции. Они решили привязать сроки и суммы германских платежей к погашениям Союзниками военного долга (против чего долгое время выступали сами). В итоге был подписан долгосрочный и сложный график германских выплат странам-кредиторам, который предусматривал полное погашение репараций в течение 59 лет. Это, кстати, противоречило Версальскому договору, 233 статья которого фиксировала окончание выплат в 1951 году (имелось в виду, что все должно быть завершено в течение жизни одного поколения).
По новому графику в течение первых 37 лет (до 1966 года) Германия должна была выплачивать в среднем около 2 миллиардов марок в год. Размеры платежей шли по возрастающей — от 1,7 миллиарда в первый год и до 2,4 — в 1965/66 годах. Но на этом дело не заканчивалось. Германия должна была платить (правда, меньшие суммы) вплоть до 1988 года, когда завершилась бы выплата межсоюзнических военных долгов. 74,2 % репараций попадали по этой схеме в США в качестве погашения военных долгов, а 23 % оставались у стран Антанты. Оставшиеся 2,8 % касались прямых требований Америки к Германии (оплата недолгой американской оккупации Рейнланда и др.) 147. Страны-кредиторы пошли еще на одно послабление Германии — ее ежегодные платежи были поделены на «безоговорочные» и «откладываемые». «Безоговорочные» выплаты в размере 660 миллионов марок должны были погашаться ежегодно и обязательно. Их источником предусматривался специальный налог на германские железные дороги. «Откладываемая» часть могла в условиях тяжелого финансово-экономического положения переноситься на срок до двух лет. Допускалось также частичное погашение долга товарами и ресурсами 148. Отменялся любой союзнический контроль над германскими железными дорогами и Рейхсбанком. Это была, конечно, не та коммерциализация репараций, о которой говорили Пуанкаре и Джилберт, но Германия получила полную финансовую независимость и могла снова поднимать вопрос об освобождении Рейнланда, что она и сделала сразу по принятии плана Янга в июне 1929 года. Интересно, что, уже достигнув 27 апреля принципиальной договоренности с американцами, Шахт в начале мая продолжал убеждать не только германское правительство, но и членов своей делегации, будто он не хочет уступать кредиторам и по-прежнему ведет переговоры 149. В итоге Ялмар Шахт добился своего. 3 мая он получил телеграмму из Берлина, где говорилось, что правительство «единогласно считает принятие предложений Янга неизбежным» 150. План Янга был принят Германией, и глава Рейхсбанка мог публично заявлять, что не несет за это политической ответственности.
Шахту было чего опасаться. Сразу после того как план Янга был предан гласности, на него обрушился шквал критики в Германии. В неприятии плана объединились самые разные силы — националисты, коммунисты, национал-социалисты. Влиятельный политик крайне правого толка, председатель Немецкой национальной народной партии Альфред Гугенберг заявлял в те дни: «Лучше уж всем немцам вести жизнь пролетариев до того времени, пока не пробьет час свободы, чем позволить некоторым из нас, ставшим агентами и приспешниками международного капитала, эксплуатировать собственный народ» 151. Правые не утруждали себя выдвижением каких-то альтернативных программ, голословно заявляя, что сохранение плана Дауэса было выгоднее для Германии, хотя по нему ей пришлось бы платить существенно больше. Дело в том, что в 1929 году заканчивался льготный для Германии период, установленный планом Дауэса. Дальнейшие выплаты зависели от индекса экономического состояния страны, а он за последние годы существенно вырос, и начиная с 1930 года Германии пришлось бы ежегодно выплачивать 2,5 миллиарда марок. Но правые предпочитали не говорить о подобных нюансах. Их простые лозунги, не подкреплявшиеся серьезными аргументами, хорошо воспринимались широкими массами пролетариев, крестьян, мелких торговцев и бюргеров, которые уже начали ощущать на себе воздействие экономического кризиса. Призывы националистов повторялись в многочисленных пивных залах по всей Германии. Между тем правительство старалось не обращать внимания на кампанию по дискредитации плана Янга, ограничиваясь его защитой в рейхстаге. Главной задачей Штреземана и других министров «большой коалиции» было добиться одобрения нового репарационного соглашения на конференции в Гааге, открывшейся 6 августа. В случае его принятия заинтересованными сторонами открывалась реальная возможность достичь, наконец, вывода оккупационных войск из Рейнланда.
Ситуация осложнялась тем, что накануне Гаагской конференции поменялись главные партнеры Штреземана по предшествовавшим переговорам. И если во Франции Пуанкаре, окончательно покинувшего в июле политическую сцену, сменил на премьерском посту старый товарищ Штреземана, локарнит Аристид Бриан, сохранивший за собой портфель министра иностранных дел, то в Англии положение было иным. В конце мая британские консерваторы проиграли парламентские выборы, и другой локарнит, Остин Чемберлен, вынужден был уступить свое место. Форин Офис возглавил лейборист Артур Хендерсон, от которого вполне можно было ожидать сюрпризов. Новый министр происходил из рабочей семьи и не имел университетского образования. До него этим мог «похвастаться» лишь Рэмси Макдональд. Но этот лидер лейбористов одновременно был еще и премьер-министром, и в здании Форин Офис он появлялся редко. В повседневной жизни английскими дипломатами руководил тогда постоянный заместитель Макдональда Айре Кроу, один из самых способных британских международников своего времени. Теперь выпускникам Итона и Оксфорда, представителям знатных фамилий, не одно поколение которых занималось внешней политикой Великобритании, предстояло ощутить на себе ежедневное руководство «простолюдина и выскочки». У многих британских аристократов такое положение вызывало внутренний протест.
Надо сказать, что сам Хендерсон не особо собирался чтить традиции вверенного ему внешнеполитического ведомства. Для него важнее был здравый смысл. С момента переезда Форин Офис в середине XIX века в построенное специально для этого здание там могли работать лишь сотрудники министерства (оно было настолько велико, что позже в том же здании разместились министерство по делам Индии и ряд других ведомств). Став министром, Хендерсон решил найти в здании кабинет для Роберта Сесила, который раньше был тесно связан с Форин Офис, но теперь не имел к нему никакого касательства. Новый министр знал трепетное отношение Сесила к Лиге Наций и решил сделать его постоянным членом британской делегации в Женеве, хотя никаких официальных постов Сесил в то время не занимал. Естественно, Хендерсону, собиравшемуся уделять Лиге Наций много внимания, захотелось, чтобы Роберт Сесил был у него всегда «под рукой». К большому удивлению министра, не желавшие нарушать традиций сотрудники министерства доложили ему, что свободных комнат в здании нет. «Что, в таком огромном здании?» — не поверил новый министр и отправился сам искать кабинет. Конечно, свободная комната была тут же найдена, и, что интересно, в ней висел портрет отца Сесила, маркиза Солсбери 152, который в конце XIX века несколько раз становился премьер-министром и одновременно министром иностранных дел Великобритании. Роберт Сесил мог теперь гордо восседать под портретом своего отца, а сотрудники министерства получили первый урок. Он был не единственным. В Форин Офис привыкли, что во второстепенных вопросах министр, как правило, соглашается с решением, которое предлагают его ближайшие помощники. Первой бумагой, попавшей к Хендерсону на подпись, оказался проект отказа Л. Троцкому в просьбе на проживание в Англии. «Вы когда-нибудь слышали о праве на политическое убежище?» — спросил министр своего сотрудника и распорядился передать документ на рассмотрение лейбористского правительства 153. Хендерсон ясно давал понять, что именно он будет хозяином в доме. Из этого, конечно, не следует, как иногда пишут историки, будто лейбористы, пришедшие в министерство, «были настроены враждебно к Форин Офис, который они считали бастионом аристократических привилегий и реакции» 154. Вовсе нет. Хендерсон был готов к сотрудничеству, но на своих условиях. «Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу лояльность и поддержку», — сообщил он активу министерства при первой встрече. Правда, тут же добавил: «По многим вопросам моя точка зрения диаметрально противоположна той, что была у предыдущего правительства» 155. В самой Англии и в мире все гадали, что это будет означать на практике.