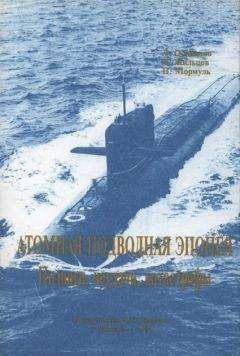Анатолий Елкин - Атомные уходят по тревоге
— Почему героем? Сдал экзамен на самостоятельное несение вахты. Поднялся и в своих глазах и в глазах ребят… Недавно я ему карточку кандидата в члены партии вручал. Сейчас он командир отделения турбинистов. Старшина 2-й статьи.
— Неподдающийся был?
— Не знаю. В принципе, неподдающихся, наверное, нет. Есть либо неопытность командира и замполита, или нежелание возиться с человеком…
Из штаба флота Михайловский и Бевз вышли только через четыре часа.
Они летели на Запад, и где-то далеко внизу проплыли Байкал, Иркутск — тысячи больших и малых городов, и только, пожалуй, на пути из Владивостока в Москву человек впервые ощутимо понимает, как велика Россия.
Бевз сидел у иллюминатора и задумчиво смотрел, как отлетает назад дымчатое кружево облаков.
В голове все время вертелись когда-то прочитанные и вдруг так неожиданно всплывшие в памяти строки:
Не побоюсь вперед взглянуть
И верить жизни не устану.
Благодарю судьбу за путь,
Который вывел к океану…
«Чьи это стихи?.. «Благодарю судьбу за путь, который вывел к океану…» Нет, не вспомнить… А впрочем, все равно…»
6Анатолий дежурил по номеру, и времени разобрать почту не было. Только когда подписали последнюю полосу газеты и в ночной редакции привычная суматоха сменилась раскованным ожиданием, пока ротации выбросят первые номера завтрашней, вернее, уже сегодняшней «Комсомолки», он не торопясь принялся разбирать конверты.
Один сразу привлек его внимание: по верху пакета шло жирным шрифтом:
«Политическое управление Краснознаменного Северного флота».
«Что бы это могло быть?» Ножницы вспороли плотную бумагу, и на стол легла пачка сколотых документов.
На листке, вырванном из блокнота, — характерный округлый почерк Бевза:
«Дорогой Анатолий Сергеевич!
Вынужден сообщить Вам тяжелую для всех нас весть. Подробности — при встрече. А сейчас могу сказать только одно: не стало Валерия Розанова. Каким он был при жизни, Вы знали. Потому мне и нечего добавлять к тем словам, которые Вы мне сами сказали при последнем свидании здесь, на Севере.
Среди бумаг Валерия оказалось неоконченное письмо к Вам. Посылаю его. Я не сомневаюсь, что Вам будут дороги эти строки…»
Он читал и не верил своим глазам. Как же так? Какая чудовищная нелепость! Валерий и смерть — совместить такое было невозможно.
— Анатолий Сергеевич, сигнал, — рассыльная положила на стол пахнущий типографской краской номер.
— Спасибо.
— Вы чем-то расстроены? Ошибка прошла?
— Да, тетя Катя. Большая ошибка. Только не в газете. В жизни.
— С женой неладно?
— Не-ет. С другом.
— Бывает, — неопределенно протянула видавшая виды Екатерина Васильевна. Многолетняя жизнь среди беспокойного журналистского племени научила ее не быть назойливо любопытной.
— Не переживайте, — на всякий случай успокоила она. — В жизни все бывает. Как-нибудь образуется.
— Да, да… Спасибо… — Анатолий отвечал машинально, не думая о том, что говорит. — Спасибо, тетя Катя…
— Ну я пошла.
— До свидания.
Он долго не решался взяться за письмо Валерия, смотрел невидящими глазами в окно, где в разливе тысяч и тысяч мерцающих огней засыпал огромный город. Только снизу доносились характерные гул и уханье: газетные машины набирали полную мощность.
Анатолий поймал себя на мысли, что надо заставить себя прочесть это письмо, полученное, по существу, уже из небытия.
«Привет с Севера! — писал Валерий. — Ты, наверное, уже ругаешься, что я замолк. Склоняю повинную голову, но, честное слово, замотался до чертиков. Готовились к сложной командировке. Теперь хлопоты позади, и перед отходом я решил наконец искупить свои грехи.
Мы не доспорили тогда с тобой о Загоруйко. Мне твое мнение кажется слишком категоричным. Просто ты убедился, что в своем подавляющем большинстве ребята с атомного флота — изумительные люди, бесконечно влюбленные и в море, и в свои лодки. На таком фоне Юрка естественно показался тебе со своим жлобским скептицизмом белой вороной.
И я вначале так думал о нем. Но когда меня избрали комсоргом, я, волей-неволей, должен был еще раз проверить свое отношение к каждому. Одно дело — личные эмоции, другое — работа с человеком.
И вот, анализируя жизнь и работу Юрки, я понял, что наше с тобой категорическое осуждение его тогда, на плавбазе, справедливым было только отчасти.
У Юрки много наносного, показного. Бравада, если хочешь. Он никак не желает быть «таким, как все». А потому нелепо решил, что поза доморощенного Чайльд-Гарольда придает его личности ореол этакой мудрой, повидавшей виды незаурядности.
А недавно, в походе, я видел, как он работает. Нужно было срочно проверить сложную схему. И он не спал ночь, копался в ней, ворчал для виду, но по всему было видно, что это ему по душе, что он счастлив и горд доверием командира.
Я в ту ночь тоже стоял на вахте. Он сам подошел и сказал: «Валерий, вы, наверное, считаете меня последним пижоном. Но если бы вы с ребятами знали, как мне самому надоела эта мишура чьих-то чужих слов. А сбросить ее не могу — привык».
Долго мы потом просидели с ним. В конце разговора он все же попросил: «Только ничего не говори ребятам. Подумают — каюсь. А мне каяться не с руки. Я гордый».
«Ты дурак, — вырвалось тогда у меня. — Не гордый, а дурак. Сбрось свою нелепую маску, тебе самому станет легче жить…»
Одним словом, он сказал, что подумает.
Неожиданной стороной он тогда передо мной раскрылся. Видишь, как важно видеть в человеке все грани. А иначе можно списать из «своих» просто ошибающегося человека…»
Анатолий пытался вспомнить лицо Загоруйко. Там, во время разговора на плавбазе. И не мог. В памяти все время всплывал Валерий. И почему-то не на лодке. Когда брели с ним вьюжной ночью по улицам городка и на шапке его таял снег…
«Кое-какие материалы, нужные тебе, — продолжал Валерий, — я подготовил. Среди них есть весьма любопытные. Особенно по Карскому морю.
А письмо, — вдруг неожиданно в послание ворвалась новая нота и почерк стал торопливым, сбивчивым, — судя по всему, мне закончить опять не удастся. Вызывают к начальству. Так что не сердись. По возвращении — допишу».
К письму была приколота пачка бумаг: выписки из боевых листков, копии материалов из стенгазеты, какие-то стихи.
«По возвращении — допишу»… Ничего ты уже, Валерий, не допишешь. И эти строки — последние.
— Толька, долго ты будешь сидеть? Мы ждем. — В кабинет заглянул выпускающий. — Не гонять же для тебя потом отдельно машину.
— Да, я иду. Иду…
Сложил бумаги, застегнул карман, чтобы случайно не выпали.
От подъезда одна за другой уходили машины.
Люди устали — шел второй час ночи — и всю дорогу молчали. Анатолий поймал себя на мысли, что это очень кстати: обычная болтовня была бы сейчас не по силам. А рассказывать о Валерии не хотелось: они его не знали, и мало ли смертей случается ежедневно на этой земле.
«Волга» проскочила блестящий от дождя, дрожащий от рекламных огней асфальт улицы Горького, свернула к манежу и вскоре вылетела на Ленинский проспект.
«Интересно, что бы сказал Загоруйко, прочтя послед нее письмо Валерия? — И тут же подумалось: — Валерий разговаривал в письме не только с ним, Анатолием, но и с самим собой, и с Юркой. Но Юрка не знает об этом. И обязательно должен узнать».
Той же ночью он перепечатал, не изменив ни слова, письмо Валерия на машинке. Внизу добавил несколько фраз от себя. Нашел в записной книжке адрес. Подумав, после фамилии «Юрию Загоруйко» написал еще одно слово: «Лично».
7Михайловский проснулся в четыре часа ночи: солнце ударило в окно, и стекла засверкали теплыми радужными снопами голубых брызг. В походе свет плафонов дневного света казался почти естественным заменителем дня. Только сейчас, глядя на слепящую радугу оттенков и полутонов торжествующего света, он видел, как беспомощен самый совершенный заменитель естественного и неповторимого блеска, бьющего с высоты.
Жена спала, уютно уткнувшись в подушку теплой щекой. Только раз или два тихонько дрогнули ресницы и губы осветились улыбкой. Как ветер тронул тихий сонный омут.
«А это здорово, — подумал Михайловский, — проснуться вот так дома. И никуда не торопиться. Знать, что и завтрашний, и послезавтрашний, и все другие дни в течение месяца — твои. Можно целый день валяться на тахте с книгой. Или махнуть на рыбалку…» И сегодня, сразу, как только она проснется, они уйдут в сопки, где не будет никого, кроме них двоих. Только шелест ветра в ягельнике и заблудившееся в сопках эхо…
Море и корабли всегда разлучали людей. Это казалось ему естественным, как естественным вроде было и то, что в стремительном движении технического прогресса, подминающего время и расстояния, эти разлуки, казалось, должны были сократиться. Колумба отделяли от Америки месяцы. Пассажира реактивного самолета — часы.