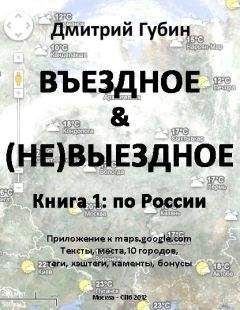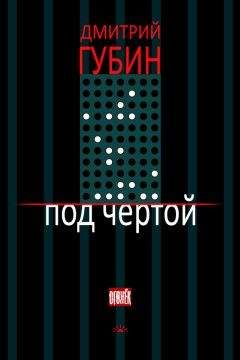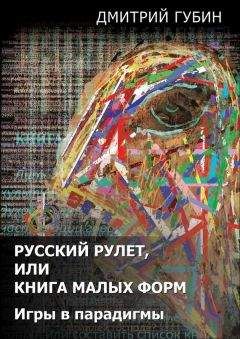Дмитрий Губин - Въездное & (Не)Выездное
Боги, боги мои! Там были свиные котлетки с огурцом, нежнее которых я не ел! Я облизывался и шептал, цитируя Заболоцкого: «Хочу тебя! Отдайся мне! Дай жрать тебя до самой глотки! Мой рот трепещет, весь в огне, кишки дрожат, как готтентотки!». Во «Фрикадельках» была тьма народа. И там было самообслуживание: да-да, подносы, рельсики-трубки. Сто-лов-ка. Но провернувшая трюк, подобный трюку Русского музея, ставшего фабрикой-кухней блокбастеров. (Что за трюк у Русского музея? А простой! Чтобы вытащить картины из запасников и привлечь публику, Гусев использует формальный признак. Например, говорит он, у нас будет выставка «Красное». И – оппаньки! – выставляются все картины, где есть красный кадмий, сурик или киноварь. Потом – Синее! Белое! Воздух! Вода! Двое! Трое!.. Сегодня в корпусе Бенуа выставлены «Рожденные летать… и ползать» – картины с птичками, бабочками, жучками и паучками.)
…Ух, как меня закружило!.. Но возвращаюсь.
Возвращение столовых в питерский общепит стало происходить пару лет назад. Сначала осторожно, как бы под псевдонимом. Ну, а в этом сезоне – уже не стесняясь. На вывеске «Тарелка столовая» слово «тарелка» ма-а-ленькое, зато «СТОЛОВАЯ» – аршинными буквами. На него и расчет. Это (такую версию я слышал часто) результат переориентации перебравшихся в Петербург людей, нередко беженцев, то есть азербайджанских, грузинских, армянских семейств, и занявшихся общепитом просто чтобы выжить. Лет десять назад они открывали кафешку «Рица» (оливье, харчо, солянка, шашлык), где прибыль строилась на праздниках в кругу диаспоры (а питерцы воротили нос: недешево и невнятно). А теперь они открывают столовку, рассчитывая на проходимость, оборот.
Да что беженцы! Столовыми в Петербурге сегодня занимается знаменитый ресторатор Мельцер. У него одна на заводе «Волна», плюс в университете ЛЭТИ.
Игорь Мельцер – человек-легенда. Это он придумал «клуб грязных эстетов Хали-Гали», раскрутил Романа Трахтенберга и создал ресторан «Зов Ильича», где при входе повязывали пионерский галстук, а в туалете по монитору гоняли смесь порнухи и хроники с Брежневым, – а потом переключился на рыбные рестораны («Матросская тишина» ныне образцовый), проводя акции типа «устрицы за 900 рублей – без ограничений!»
Мельцер – талант изощренный (была у него идея клуба с чил-аутом, заполненным газом, искажающим звуки: жаль, не сложилось!)… Таких поднимало наверх в перестройку. Примечательно, что в нынешние серые времена Мельцер вернулся к тому, с чего начинал: а начинал он карьеру на фабрике-кухне № 1 Кировского района Ленинграда. И он унаследованные от СССР столовые решил перекроить по европейским лекалам. В итоге у него используют итальянский соус из печеных помидоров – а не нашу томатную пасту, напичканную крахмалом. Во фрикадельки добавляют корицу, а в котлетки – мускатный орех. В его столовых ассортимент шведских столов (от 170 до 235 рублей) выстраивают шеф-повара из Kempinski.
То есть ресторатор Мельцер отреагировал на то, что носится в российском воздухе. А носится, как мне кажется, очевидная вещь: средний класс в России не сложился. И если в пафосной Москве по этому поводу еще есть иллюзии, то в Петербурге они утрачены. В России есть богатые и очень богатые, так или иначе связанные с госбизнесом. И есть новый бедный класс – который либо в золушках у государства, либо сам по себе. Новые бедные хорохорятся, одеваются в H&M и Gap, но бизнес-ланч за 250 рублей им дорог. В столовых – иное дело. В шалманчике «Плюшкин дом» на Казанской щи (вкусные!) – 55 рублей, макароны по-флотски (переваренные) – 70. В «Тарелке столовой» суп грибной – 35 рублей, куриная отбивная – 53. В замечательной «Столовой № 5» полновесные порции «горячего» идут по 100 рублей.
То есть обед, если ужаться, обходится в сотню, а если шиковать – то в две.
Дорого это или дешево по сравнению, например, с советской бедной жизнью? Я для сравнения использую коэффициент «200». Умножьте на 200 советские цены (или разделите на 200 российские) – увидите, как они соотносятся. Скажем, средняя зарплата в Питере что-то около 36 тысяч рублей в месяц. Ну, так и в Ленинграде средней считалась зарплата в 180 рублей. В СССР обед в студенческой столовке обходился в 60 копеек, в профессорской – в рубль. Сегодня это соответственно 120 и 200 рублей. Все совпадает.
Чтобы понять, в каком гастрономическом обличье вернулся в Россию СССР, зайдите в Питере не только в Эрмитаж, но и в столовые. Посмотрите, до чего там разнообразен народ! Строгие юноши с небрежно повязанными шарфиками. Ухоженные девушки в очках с недешевыми сумочками. Пожилые пары. Темноволосые мужчины в рабочих костюмах.
Это – объединение новых бедных. Там и 50-летние, которые после развала СССР кроме как на собственной кухне нигде вообще не ели. И 20-летние, экономящие на обеде, чтобы вечером небрежно заказать капучино в гламурном кафе «Счастье». И офисный планктон, у кого на работе дорогой и невкусный буфет. И те, у кого, как у меня, есть лишь четверть часа на перекус. Одних привлекает цена, других – отсутствие барьера между тобой и едой, третьих – непридуманная русская еда, то есть та, которую мы едим дома.
Это значит: у столовых в ССС… э-э-э, в России! – огромные перспективы.
2013 КОММЕНТАРИЙСтоловые после того, как этот текст был опубликован, стали в Петербурге расти с удвоенной скоростью: только на Невском их сегодня уже штук пять, и количество стало переходить в качество, причем необязательно высокое. Скажем, московские друзья с поезда заглянули в свежеоткрытую столовку на Пушкинской улице (это в паре минут от вокзала) – и с удивлением обнаружили, что на завтрак там не готовят решительно ничего. А не все, знаете ли, любят начинать день с котлет с макаронами. Другие столовые – например, помянутая мной «Копейка» – стали настоящей сетью, что, на мой субъективный вкус, на пользу тамошней еде не пошло. Но с сетевым общепитом вообще нужно держать ухо востро: я лично считаю «Макдоналдс» великим фастфудом не потому, что там готовят самые вкусные в мире гамбургеры, а потому, что в абсолютно любом ресторане сети гамбургеры стандартно вкусны. В большинстве же других случаев «сеть» есть признак того, что владельцы делают деньги вместо еды. Кстати: в Петербурге упаси бог вам зайти в самую большую из ресторанных сетей – «Суши-Евразия»! Даже умирая с голоду… Моя жена, которая, напомню, гастрономический критик, всерьез считает, что «Суши-Евразия» делает деньги на мазохистах, которым по душе оплачивать самые невкусные >в мире роллы и лечение диареи. Но если вы из таких, тогда, как говорят японцы, – дозо!
2014#Россия #Петербург
Творог в своем отечестве
Теги: Замок Розан-Сегла как французский привет деревне Мезгино. – Девятнадцатирежды герой гастрономического труда Ален Дюкасс с приветом Петербургу. – Творог с Кузнечного рынка как привет мировому чревоугодию.
В июне в Петербурге открылся ресторан самого знаменитого шефа мира – Алена Дюкасса. Гурманы вздрогнули: еще и потому, что Дюкасс всюду и всегда использует местные продукты. Которых, по словам питерских же рестораторов, они избегают.
Но сначала я расскажу одну историю, в качестве закуски перед основным блюдом, перед тем, что французы называют le plat principal, – не волнуйтесь, история будет недлинной, но имеющей отношение к гастрономии, Франции и России.
Мы с женой недавно проехались по региону Бордо, дегустируя молодое, урожая 2010 года, вино, которое еще даже не начинали разливать, так что на бутылках, из которых нам наливали, были временные этикетки. Эта дегустация молодых вин, les primeurs, – штука закрытая, для специалистов, которые в Бордо опознают друг друга в толпе по черным губам, как будто объелись черники (трещинки на губах смотрятся и вовсе клыками вампира). Но нас пригласил французский друг Доминик, хемингуэевский совершенно персонаж, грустный и умный прожигатель жизни. Он занимается тем, что любит вино, самозабвенно и взаимно. А поскольку Доминик человек небедный, он хватает в охапку тех, кто понимает толк в вине, и таскает с собой по местам производства и потребления жидких сокровищ. Вот он и захватил на этот раз мою жену, которая винный и ресторанный критик, – да и меня в качестве нагрузки.
Если бы я хотел довести какого завистника до белого каления, то написал бы, что дегустации начинались утром в Шато д’Икем, продолжались днем в Шато Петрюс, а завершались вечером в Шато Пап-Клеман (и написал бы правду!), но дело не в этом. Просто на второй или третий день, стоя под стенами замка Розан-Сегла, любуясь убегающими за горизонт виноградниками (и идеально ухоженным замком, что отдельная тема), я вдруг поймал себя на том, что этот пейзаж уже видел. Просто не могу вспомнить где. Но вспомнил: если виноградники заменить полями овса, а Розан-Сегла – полуразрушенным Введенским монастырем, то будет точь-в-точь ландшафт между деревнями Чернцы и Мезгино Шуйского района Ивановской области, где я проводил детство. То есть если повернуть круто направо, то скоро дойдешь до речки Тезы, то есть, тьфу, Гаронны.