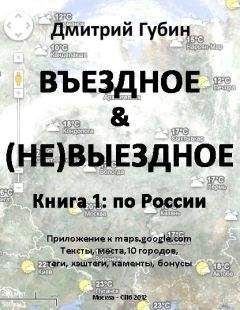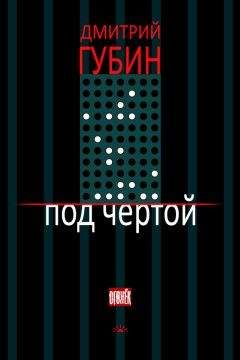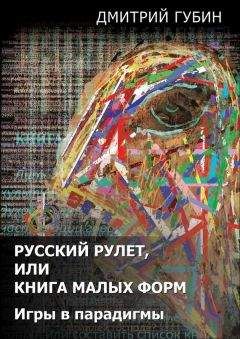Дмитрий Губин - Въездное & (Не)Выездное
И все это по краскам и звукам – впрочем, эстетически близким, поскольку в любой колонне крутили советские песни (невольно подтверждая, что в России любое движение вперед сводится к шагу назад), – словом, по многообразию все это напоминало коралловый риф в океане, то есть живой большой город. Вот поперек проспекта прошли мальчишки в корсарских шапках и с «Веселым Роджером»; по свободной полосе Лиговского покатился шар-зорб с надписью «Не нравится в России? Катитесь отсюда!», приближаясь то к либерал-демократам, то к обществу автомобилистов; коммунисты повели ряженого медведем мужика с табличкой, утверждающей, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров.
Мне нравилось это птичье, рыбье, звериное, цветочное многообразие.
Но одна вещь настораживала. Что-то в этой майской демонстрации было не то. Чем-то она отличалась от виденных мною в Берлине, Париже, Лондоне.
И вот, когда милиция дала отмашку и шествие покатило по Невскому, и загундосил официальный профсоюз, и пошли вслед за лимоновцами голоногие барабанщицы из неофициального профсоюза, и вскинулись портреты Сталина, и заорали «Слава России» стриженые мальчишки, – я вдруг не столько даже понял, сколько увидел, что было не так. По Невскому и Лиговскому, по всем прилегающим улицам, сколько хватало взгляда, стояли, чуть не плечом к плечу, бесконечные милиционеры, омоновцы, гаишники, спецназовцы, военные, снова милиционеры, гаишники, омоновцы и курсанты. Нестоявшие шли рядом с колоннами. Их вообще было больше, чем всех демонстрантов, и тротуары Невского были перетянуты лентой, чтобы никто из прохожих не мог в шествие включиться, а идти по Невскому могли только те, у кого есть разрешение. Мне показалось даже, что всем этим милиционерам немного не по себе, что они вынуждены мерзнуть, что их лишили выходных, родных, праздничного винегрета – и все лишь затем, чтобы ограждать людей, как зверей. Может быть, чувствуя эту невольную вину, милиционеры разрешали мне переходить с тротуара в колонну и обратно – хотя, может, я для них был просто одиночный пикет.
Это шествие было пародией, но не жизнью свободного города. Это больше всего, если честно, напоминало развод скота по загонам – и те, кто разводил, были абсолютно уверены, что разводимые есть скот, который в случае чего можно и забить. И потом, когда на Исаакиевской площади я увидел либерал-демократов, поставленных к стенке Института растениеводства (ни шага влево, ни шага вправо!), и когда увидел коммунистов и нацистов, окруженных плотным строем военных, и когда у ТЮЗа увидел жалкую горсточку яблочников, окруженных совершенно уж какими-то невообразимыми чудищами в шлемах с забралами, я понял, что это не я прошел по Невскому. Это меня провели. И мне еще повезло, потому что кого-то там повязали как неразрешенных анархистов – уж не тех ли мальчишек, что играли в корсаров?
Я побрел по разрытой, изгаженной вдупель Гороховой, и думал, что нет больше никакого «моего Петербурга», а есть котлован для рытья бабла, а поскольку с этим ничего не попишешь, честнее встречать следующий Первомай на даче. И коли будет совсем невмоготу, то напиться.
2011 КОММЕНТАРИЙПоследние года четыре я старался больше читать по истории страны. Здоровенные тома «Истории» Соловьева и «Истории государства российского» Карамзина, первый том «Истории российского государства» Акунина, лекции по русской истории Ключевского и сохранившиеся только на магнитофонных кассетах лекции Мачинского, «Александр II», «Николай I» и «Сталин» Радзинского, «Россия при старом режиме» и «Русская революция» Пайпса, «История России от Рюрика до Путина» Анисимова, «Технология власти» Авторханова, «Техника государственного переворота» Малапарте, «22 смерти, 63 версии» Лурье, «Любовь к истории» Акунина, а еще Бердяев и Розанов, Эйдельман и Зимин (которого мало знают, но который написал «Русского витязя на распутье», одну из лучших книг по отечественному средневековью) – и это не считая книг по смежным дисциплинам, вроде «Столкновения цивилизаций» Хантингтона или «Коллапса» Даймонда.
То, что современный тип государственного управления в России является самодержавным – он ведет свою историю пусть не с Рюрика, а примерно с периода между Иваном III и Иваном IV, – для меня новостью не было. Но меня каждый раз забавляла быстрота смены всеобщей любви к самодержцу столь же всеобщей нелюбовью. Еще вчера – «дней Александровых прекрасное начало», а уже сегодня – «властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда».
Это я к тому, что очерк про Первомай в Петербурге был опубликован в «Огоньке», когда завершалась эпоха «прекрасных начал» очередного русского самодержца (в рамках представления о прекрасном среднего русского человека). А комментарий я пишу в сезон осени «плешивого щеголя» (как назло, еще и пережившего крайне неудачное вмешательство в свою внешность врача-косметолога).
Что нас ждет дальше? В соответствии с историей падений русских самодержцев, имеются варианты: смерть при не до конца проясненных обстоятельствах (Иван IV, Александр I, Николай I, Сталин), однозначно насильственная смерть при власти (Павел I, Александр II), насильственное отстранение от власти (Иван VI, Петр III, Николай II, Хрущев, Горбачев – первые трое затем были убиты). Шансов у деспота мирно умереть, «садясь на судно» (как Екатерина II) – меньше половины.
Ждем-с.
2014#Россия #Петербург
Столовые сервисы
Теги: Рубль и «Копейка». – Игорь Мельцер и Роман Трахтенберг. – Новые времена и новые бедные.
В Петербурге ныне любому приезжему в глаза, помимо десятков дворцов, сотен кариатид, тысяч отелей, гостиниц и хостелов, бросаются вывески «Столовая». Это свежая тема в нашем общепите.
Я сам заметил столовки как явление не сразу, а лишь в апреле 2013-го, когда вернулся в свой город, знакомый до слез, после некоторого перерыва. Вон гордо сверкает «Столовая № 1 Копейка» на Невском. Вон «Тарелка столовая» (новенькая, еще не сдулись при входе шарики) на углу Марата и Колокольной. Подвальную «Столовую № 5» на Большом проспекте Петроградской стороны, правда, легко проскочить – зато она в доме, где бутик Paul & Shark. В таких покупает себе одежду для яхтенных прогулок Абрамович и прочие олигархи, и раньше такого соседства нельзя было и представить.
Клич, кинутый в ЖЖ – дайте адреса питерских любимых столовок! – тут же принес улов в две дюжины адресов, от сети «Столовая ложка» до столовки налоговой инспекции у Пантелеймоновской церкви.
Столовки, конечно, не из-под снега в Петербурге проклюнулись. Мы с женой, гуляя еще года полтора назад по Невскому, проголодавшись, заскочили в заведение Market Place у Большой Конюшенной. Привлечены были запахами, меню и ценами. Вошли – батюшки светы! Тут тебе и открытая кухня с овощами на воке, и гриль, и роллы… Но главное – подносы и открытый доступ, потому что признаков у настоящей столовой (как бы она себя ни называла) ровно три.
Первый – самообслуживание: берешь поднос, набираешь еду и двигаешь к кассе (это – американское изобретение, привезенное в СССР советскими колумбами Ильфом и Петровым, раскрывшими в «Одноэтажной Америке» логистику нью-йоркской «кафетерии»: «Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос… Прилавок, собственно, представлял собой огромную скрытую электрическую плиту»).
Второй признак – свободный доступ к блюдам: сначала видишь, потом заказываешь.
Третий – низкие цены, и у меня выработан прием, как определить их разумность, но потерпите чуть-чуть: пока о столовках самих по себе.
Так вот, заход в Market Place был моим возвращением в столовую после 20-летнего перерыва, потому что опыт советского общепита, когда в супе отделялась несъедобная гуща от жижи, до сих пор вызывает спазм. Нет, я знал, что столовые бывают другими (ах, какая кантина была в Брюсселе в Европарламенте! Какая была столовка Би-Би-Си в Буш-Хаусе, где за три с полтиной фунта черный парень наворачивал стир-фрай с цыпленком! Впрочем, вру: в России вместе с «Икеей» появились и столовые с замечательно вкусными шведскими фрикадельками). Но я никогда не думал, что демократичный общепит станет у нас уличным, массовым. Потому что еда вне дома в России – сплошные понты, чайник чая по 500 рублей и выложенный на столик «пятый» айфон (ибо «четвертый», понятно, лишь у лохов).
Но вдруг в Питере я стал все чаще слышать: «А ты был во «Фрикадельках»?» – и зимой, на бегу от метро к корпусу Бенуа Русского музея, где шумела очередная выставка-блокбастер (а такие выставки директор музея Гусев лепит одну за другой, как фрикадельки), я туда заскочил.
Боги, боги мои! Там были свиные котлетки с огурцом, нежнее которых я не ел! Я облизывался и шептал, цитируя Заболоцкого: «Хочу тебя! Отдайся мне! Дай жрать тебя до самой глотки! Мой рот трепещет, весь в огне, кишки дрожат, как готтентотки!». Во «Фрикадельках» была тьма народа. И там было самообслуживание: да-да, подносы, рельсики-трубки. Сто-лов-ка. Но провернувшая трюк, подобный трюку Русского музея, ставшего фабрикой-кухней блокбастеров. (Что за трюк у Русского музея? А простой! Чтобы вытащить картины из запасников и привлечь публику, Гусев использует формальный признак. Например, говорит он, у нас будет выставка «Красное». И – оппаньки! – выставляются все картины, где есть красный кадмий, сурик или киноварь. Потом – Синее! Белое! Воздух! Вода! Двое! Трое!.. Сегодня в корпусе Бенуа выставлены «Рожденные летать… и ползать» – картины с птичками, бабочками, жучками и паучками.)