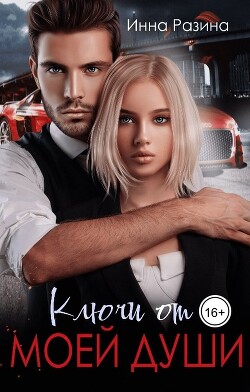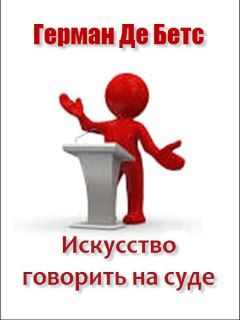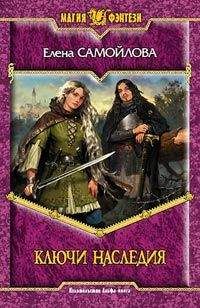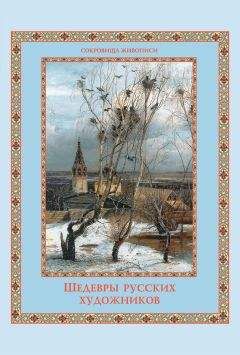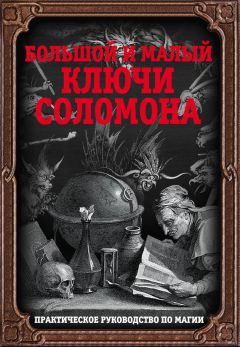Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
О чем говорят они друг с другом?
О том единственном, о чем могут говорить романтики, – о смерти.
Эжен Делакруа никогда не отказывал себе в масштабном пролитии крови на своих полотнах. Он делал это умело, без отвратительной убедительности, но с большим пафосом. В отличие от «Плота “Медузы”», заставлявшего чувствительную публику отворачиваться, морща нос, картины Делакруа вызывали эмоциональный подъем, далекий от отвращения. Смысл своей работы он видел в том, «чтобы суметь привести в волнение зрителя» [202]. И для этого ему не нужно было приносить в мастерскую отрубленные конечности – достаточно лишь эффектно разместить на полотне живых и, главное, мертвых.
Если для Жерико смерть являлась мрачной бездной, за которой лишь вечная чернота, то для Делакруа она превратилась в повод для эффектной композиции.
Так что «Свобода на баррикадах» или, более привычная нам, «Свобода, ведущая народ» – это картина про смерть. Как и все, что создано французским романтизмом в музыке, литературе и живописи. Эти дети Французской революции и наполеоновской Франции выпускали в мир грандиозные творения своего исполинского гения, выросшего из бурь и страстей неспокойной эпохи глобальных перемен, – и творения эти пугали мощью и натиском.
Как пугает нас эта бесстрашная молодая женщина с грязной от пороха грудью, босыми ногами ступающая по трупам павших врагов, даже не глядя на них. Такова аллегория этой Свободы, полученной ценой крови и пота, выцарапанной из рук монарха с помощью винтовок и штыков. Эта Свобода не знает красивых речей и долгих размышлений в тиши кабинета, она понимает лишь язык силы и борьбы.
Хочу подчеркнуть еще раз: перед нами – аллегория. Не стоит искать в ней черты реальных персонажей. Она наделена всеми атрибутами, свойственными аллегорическому образу Свободы. На ней – красный фригийский колпак [203], символ освобождения от рабства в Древнем Риме. В руках у нее – революционный триколор [204], символ Французской революции, о которой поколение 20–30-х годов XIX века начало уже ностальгически вздыхать, забыв страшные отцовские рассказы о терроре и гильотине. Профиль ее – копия древнегреческих статуй, что роднит французскую аллегорию Свободы с античными богинями, помещая ее между защитницей и воительницей Афиной [205] и царственной Герой [206].
Но эта богиня – не небожительница в белоснежных одеждах, являющаяся борцам из облаков в виде бестелесного небесного создания. Она соткана из плоти и костей, перепачкана порохом и растерзана в борьбе. И все же эта женщина – не человек, не земное существо. Она пребывает в ином измерении, и никто, кроме рабочего в синей блузе, поднявшего к ней затуманенный взор, не видит ее. Ее присутствие лишь ощущается повстанцами, ведь она все время рядом – в виде идеи, идеала, цели, проводника, маяка, мечты.
У этой прекрасной возвышенной идеи есть цена. И цена эта высока. Настолько высока, что становится бесценной: нет такой цены, что за нее не отдали бы. И человеческая жизнь – самая малость из того, что человек XIX века готов был положить на алтарь той Свободы, которая в его представлении была тождественна вселенскому счастью.
Нам, людям XXI века, сложно осознать ценность этого понятия для современников Делакруа, которых можно назвать «потерянным поколением XIX века». Они ощущали себя бесславными детьми тех, кто одним махом свалил с пьедестала тысячелетнюю французскую монархию, а затем захлебнулся в крови собственной свободы, не справившись с ней и безрезультатно пытаясь приручить ее. Они бредили славными победами имперской Франции под предводительством Наполеона, чья власть, впрочем, закончилась при первом же военном поражении. Теперь, 15 лет спустя, когда революционные страсти и наполеоновское величие остались в прошлом, молодые люди, завидовавшие славным деяниям отцов, но забывшие, какой ценой они давались, страдали от ничтожности собственного существования, лишенного бури и натиска, утонувшего в вязком болоте обыденности.
И вот наконец свершилось! Им представился шанс получить собственную революцию! И что с того, что длилась она не 10 лет, как Великая революция 1789 года, а всего три дня? У них тоже были баррикады, кровь, пролитая на алтарь отечества, и завоеванная ценой сотен жизней Свобода!
Трупы, по которым идет босоногая мечта, не пугали их, как напугали 11 лет тому назад трупы «Плота “Медузы”», потому что эти мертвецы символизируют жертвоприношение. Смерть их не бессмысленна, а священна. И это меняет все!
Композиционно Делакруа выстраивает свое произведение созвучно с холстом Жерико. На обеих картинах мертвые на переднем плане отделяют зрителей от живых, становятся своеобразным барьером между нами и тем порывом, которым объяты герои двух живописных историй. Даже позы мертвецов у двух художников похожи! Сравните позы раздетого мародерами павшего защитника баррикады у Делакруа и безголового трупа в правом нижнем углу плота у Жерико, позы убитого национального гвардейца у Делакруа и мертвого сына на руках отца у Жерико.
Делакруа строит идеальную пирамидальную композицию, вершиной которой является триколор, подобно тому как вершиной треугольника на картине Жерико выступает сорванная с кого-то одежда. Мальчик по левую руку Свободы (прообраз Гавроша из романа «Отверженные» Виктора Гюго) повторяет жест сигнальщика на «Плоту “Медузы”»: одна рука вскинута вверх, другая согнута в локте и чуть отведена назад, нога поднята. Даже флаг в руках у Свободы развевается, подобно парусу на полотне Жерико!
И несмотря на этот художественный диалог Эжена Делакруа со своим старшим покойным товарищем и учителем, сложно найти две более противоположные по замыслу картины.
Герои Жерико, повернувшись к нам спиной, устремляются прочь от своих мертвецов и обращаются к горизонту, туда, где зарождается их новая жизнь. Герои Делакруа, напротив, движутся прямо на нас, решительно и неустрашимо вступая в свою новую жизнь по трупам врагов и друзей. Они не боятся войти в царство смерти, потому что войдут туда как герои, которых ожидает слава – и в этом мире, и в ином. У Жерико же мертвецы просто ушли в небытие, бессмысленно и бесславно, и последовать их примеру не желает никто.
В этом – огромный разрыв между двумя произведениями.
Отличаются они и тональностью.
Черно-белому с редкими вкраплениями тревожного красного у Жерико Эжен Делакруа противопоставляет бело-голубую гамму, также добавляя в нее красные акценты, но смысл у этих добавлений совершенно иной. Его тона – это цвета французского флага, того самого, революционного, что реет над головой неистовой Свободы, которую совершенно логично регулярно путают с Революцией. Делакруа сознательно проводит эту параллель. Более того, он повторяет триколор еще дважды – в виде трехцветных лоскутов, привязанных на палку за рабочим в белой блузе по нашу левую руку, и в цветах одежды мужчины в синей блузе, чья поза напоминает падение ниц перед божеством.
Под сень и защиту триколора Делакруа поставил всю Францию. Обратите внимание, как перемежаются герои на его картине: смотря слева направо, мы видим ученика Политехнической школы в типичном для этого учебного заведения черно-красном головном уборе, рабочего ткацкой мануфактуры, молодого буржуа в цилиндре, рабочего в синей блузе. Парижские улицы представлены маленьким бунтарем по нашу правую руку, бесстрашным и порывистым, спешащим опередить саму Свободу на вершине баррикады. В этой священной борьбе нет социальных различий, здесь царит тот самый недостижимый идеал равенства и братства, который Французская республика 50 лет спустя сделает своим девизом.
Пока эти люди вместе, они непобедимы, словно говорит нам автор. А пока они следуют за одним идеалом, одной мечтой, одной идеей, они будут вместе.