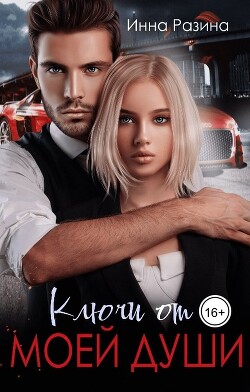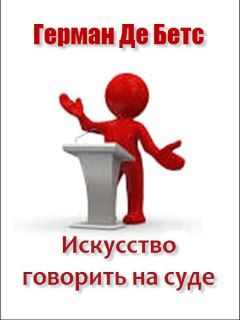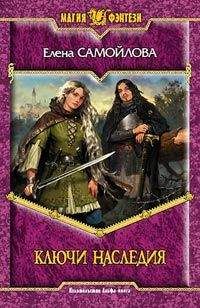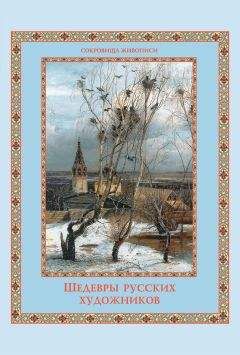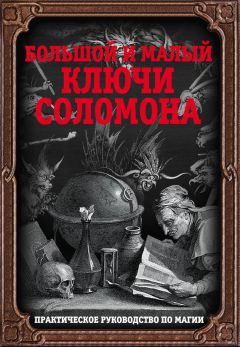Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Лодки приняли 228 человек, и все эти люди остались живы, благополучно добравшись до берега. На плоту оказалось 147 человек. И на тринадцатый день, когда бриг «Аргус» натолкнулся на них, в живых осталось лишь 10 %. Вся мерзость ситуации заключалась в том, что «Аргус» был отправлен в море, чтобы найти не людей, брошенных на злополучном плоту, а стоявшую на мели «Медузу», на борту которой было предназначенное для Сенегала государственное золото. Плот он обнаружил случайно, заметив его лишь со второго раза, однажды уже пройдя мимо, чем лишил сигналивших ему людей последней капли надежды.
Посмотрите внимательно на картину Жерико. Почему мы решили, что крошечный корабль на горизонте увидел страдальцев? Возможно, это его первое появление, когда все усилия изможденных людей привлечь к себе внимание впередсмотрящих оказались тщетны. Если же мы становимся свидетелями второй встречи с «Аргусом», увенчавшейся успехом, то нам тем более понятно сомнение, читающееся в позах и лицах части потерпевших: уже однажды надежда предала их.
Полтора десятка человек, тех самых, что за пять дней до этого сбросили с плота слабых и раненых, спасутся благодаря этой случайной встрече. Десять из них даже выживут и доберутся до берега. Их судить не будут. Будут судить тех, кто принял решение оставить полторы сотни человек без воды и еды посреди океана. Губернатор Сенегала будет снят с должности. Капитан корабля получит три года тюрьмы. Только и всего.
А общество ждало иного. Оттого и увидело в картине Жерико дерзкий вызов власти, которого в ней на самом деле не было. Не было в ней даже отсылки к конкретному событию, произошедшему за три года до того, как огромное полотно увидело свет. Жерико дал название своему произведению, как того требовали правила Салона, и звучало оно так: «Сцена кораблекрушения». Иными словами, никакого указания на то, что речь идет о конкретном событии и конкретном корабле, нет! Нынешнее название – «Плот “Медузы”» – появилось лишь после покупки картины Лувром, то есть когда Жерико уже не было в живых. Мне сложно сосчитать, сколько раз я читала в различных анализах этого бесспорного шедевра романтизма, что таким образом художник пытался обойти цензуру, но всем было понятно, о каком именно событии идет речь.
Но что, если мы все же послушаем не искусствоведов, а автора? Что, если попытаемся проникнуть в его замысел, оставив в стороне интерпретации, выгодные самим интерпретаторам? Что тогда мы увидим на картине?
Было бы неверным утверждать, что трагедия фрегата «Медуза» никак не повлияла на создание произведения Жерико. Тем более что нам известно о сооруженной в мастерской художника уменьшенной копии плота, на которой он размещал восковые фигуры, желая составить не только динамичную, но и гармоничную композицию, а также сделать картину как можно более правдоподобной. С этой же целью он, так любивший живую натуру и заявлявший, что «не стал бы писать даже тряпку для кистей без натуры» [194], корзинами таскал из морга отсеченные конечности, а однажды принес отрубленную на гильотине голову.
Живое надо писать с живого, а мертвое – с мертвого, не так ли?
Все это говорит лишь о стремлении романтика стать реалистом, о желании ученика классицистов вдохнуть жизнь в своих персонажей, превратив их из раскрашенных статуй в людей – живых и мертвых. Истории об агонизирующих на плоту людях, поедающих своих вчерашних товарищей и с каждым новым днем теряющих надежду, а вместе с ней и человеческий облик, не могли оставить равнодушными чувствительную душу и богатое воображение молодого живописца. Разумеется, происшествие, в деталях обсуждаемое всем Парижем, вдохновило его на создание картины. И весьма вероятно, что он намеревался отразить в ней весь ужас, пережитый несчастными страдальцами. Но очень скоро замысел стал изменяться и расти, достигнув в своем финальном воплощении исполинских размеров.
Гений Жерико сотворил настоящую метафору человеческой жизни, изобразив ее как отчаянную борьбу с обстоятельствами, в результате которой человека ждет неизбежная смерть. Смерть настолько неприглядна в своем физиологическом воплощении, что полностью лишает сакральности человеческое тело, как бы прекрасно оно ни было, когда в нем теплилась жизнь. Неловкие вывернутые позы, в которых застыли окоченевшие тела, спущенные несвежие чулки и приоткрытые в последнем немом крике рты – таков исход той вечной борьбы со смертью, которую люди называют жизнью и в которой ни при каких обстоятельствах не могут победить: в конце пути смерть придет за каждым.
Впрочем, нет!
Смерти посвящена лишь нижняя часть картины, где мертвых больше, чем живых. 15 человек еще живы – это число точно соответствует выжившим на плоту «Медузы». Они расположены в пространстве холста в виде пирамиды. На самом ее верху человек поднял красно-белую тряпку, привлекая внимание появившегося на горизонте корабля, символа спасения. Отчаявшиеся люди постепенно приходят в движение, подобно волнам, окружающим их, поднимаются вверх, тянут руки. Они приветствуют не корабль, а саму жизнь! Недаром вместе с кораблем, как раз с той стороны, откуда он плывет, встает солнце, небо светлеет, темные тучи, собравшиеся над плотом, рассеиваются. Не корабль идет навстречу несчастным, не его приветствуют они – рассвет новой жизни встает на горизонте, возвещая куда больше, чем просто конец страданиям, – возвещая воскрешение.
Расположение людей в этой импровизированной пирамиде подчинено своей логике: чем ближе они к ее вершине, тем больше энтузиазма, вернее – надежды выражают. Отчаяние и сомнение остались внизу, там, где царит смерть. Спасение придет лишь к тем, кто наполнен верой, кто не оставил надежду и не впал в уныние.
Своеобразным проводником между миром мертвых и миром живых является центральный персонаж картины – старик-отец, на руках которого навечно застывшее тело его сына. Кроваво-красная накидка не только выделяет его фигуру среди практически монохромной живописи, но и отсылает нас к символическому значению красного цвета в искусстве, ведь это символ страдания. Больше ничто не держит старика в мире живых – и он добровольно остается среди мертвецов.
Жерико играет со зрителем, то отсылая его к конкретному событию, вдохновившему его на создание картины, то лишая происходящее принадлежности к какой-либо эпохе, превращая таким образом сцену кораблекрушения во вселенскую катастрофу. Справа мы как будто различаем триколор (который, кстати, тогда не был французским флагом!), но одежду (вернее, то, что от нее осталось) персонажей нельзя отнести к конкретному времени. Художник словно говорит нам: вы хотите увидеть тут документальную хронику, я же показываю вам метафору вашей жизни!
И в этой жизни смерти отведено немалое место.
В пользу метафоричности картины говорит сама манера, с помощью которой Жерико ведет свое повествование. Он, первый романтический живописец Франции, оказывается, таким образом, между двумя художественными стилями – классицизмом и реализмом. Его произведение, как и сам романтизм, становится мостиком между прошлым и будущим.
С одной стороны, нам трудно поверить в то, что герои Жерико провели на плоту 13 дней (если мы возвращаемся к мысли, что художник пользуется историей как вдохновительницей своего сюжета): они гладко выбриты, мускулисты и атлетичны. Мы видим редкие раны на их телах, но раны эти аккуратны и кровь не струится по полотну. При взгляде на некоторых погибших не совсем понятно, отчего они умерли. В этом – весь романтизм, наследник классицизма: ничто не должно нарушать эстетику, а о трагичности происходящего пусть говорят позы и эмоции, а не пот и кровь.
С другой стороны, Жерико очень скрупулезен в изображении смерти. Я уже упоминала об отрубленных головах и конечностях, заполнявших его мастерскую во время работы над картиной и служивших для более правдивого изображения мертвых тел. И здесь мы сталкиваемся даже не с реализмом, а с натурализмом [195]: мастер хочет, чтобы мы увидели на холсте не просто не-жизнь, но смерть.