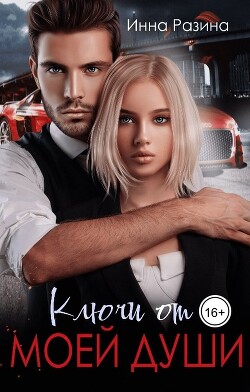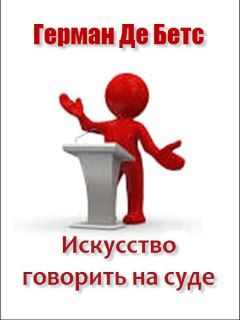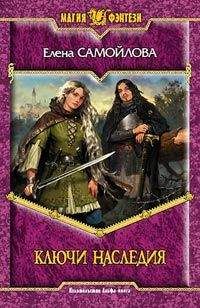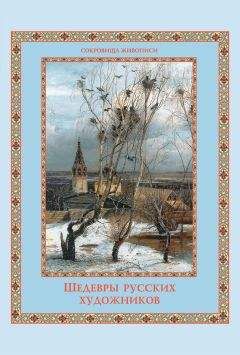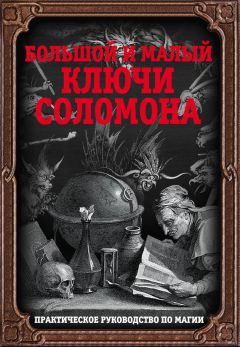Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Одним из главных законов произведения, созданного романтизмом, будь оно литературным, музыкальным или художественным, является наличие в нем героя. И не просто героя, а Героя – метущегося и противоречивого, страдающего и сопротивляющегося, противостоящего стихии и обществу, нормам и условностям, нарушающего законы и разбивающего стереотипы. Герой романтизма – это Фауст, граф Монте-Кристо, Дубровский.
Есть такой герой и в живописи. В том числе и в «бессодержательной» живописи Констебла.
Героем картины, о которой идет речь, является… телега. Она располагается в центре этого нарисованного английского мира, и вокруг нее выстраивается композиция и создается сюжет. Потому что сюжет у картины все же имеется, и он весьма странен. Вернее, странно «поведение» телеги, управляемой двумя крестьянами. Вместо того чтобы ехать по дороге, она движется по руслу неглубокой реки, чем приводит нас в недоумение.
Недоумение это легко рассеять. Дело в том, что в жару деревянная телега рискует рассохнуться, и чтобы избежать этого, ее надо время от времени прогонять по мелководью. Чем крестьяне и заняты под настороженный лай собаки. Иными словами, перед нами – совершенно бытовое, обыденное действие, ничем не примечательное и, по сути, не заслуживающее быть замеченным.
Тем не менее движение телеги по воде – явление нетривиальное, и у любого, кто не знаком с тонкостями крестьянского быта, вызовет удивление, а то и негодование. Телега поступает не так, как от нее ждут, действует вопреки общепринятой норме – и тем самым переходит в разряд романтических героев!
Таким образом, Констебл совершает настоящую революцию в живописном жанре пейзажа, изображая незначительное с помощью героических приемов и превращая банальный неодушевленный предмет в героя, бросающего вызов обстоятельствам.
Любопытно, что именно так увидел его творчество Уильям Блейк, еще один выдающийся английский романтик, поэт и художник, двадцатью годами старше Констебла. Перебирая карандашные рисунки молодого художника, он воскликнул: «Это не рисунки, а вдохновение!» Констебл же, отличавшийся полным отсутствием пиетета по отношению к собственному творчеству и считавший его исключительно подражанием, пусть и весьма умелым, природе, ответил, пожимая плечами: «Вот уж не знал. Я всегда думал, что рисунки» [214].
Этим рисункам и этим полотнам суждено будет открыть новую страницу в истории живописи, став основой мировоззрения, которое через 36 лет после смерти Джона Констебла смело и дерзко ворвется в мир искусства и свергнет с пьедестала классические каноны и классические сюжеты.
И назовется оно импрессионизмом [215].
Борьба стихий у Тернера

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/erner.JPG
Джозеф Мэллорд Уильям Тернер
Дождь, пар и скорость
1844, Национальная галерея, Лондон
Если кого и именовать вдохновителем и «духовным отцом» импрессионистов, так это еще одного английского художника, ровесника Джона Констебла и его хорошего знакомца, Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера [216]. Именно он уже в 1830-е годы, то есть за 40 лет до появления такого направления в живописи как импрессионизм, «был способен передать образ реального мира в виде последовательности мазков цвета легко и непринужденно» [217]. Констебл в свое время сказал о Тернере, что его картины словно «пишутся подкрашенной дымкой, легкой и эфемерной» [218].
В 1871 году, через 20 лет после смерти английского живописца, его произведения впервые увидят Клод Моне и Камиль Писсарро [219], два будущих основателя движения импрессионизма во Франции. Во время своего добровольного лондонского изгнания из Франции, которая два года вела пораженческую войну с Германией, друзья регулярно захаживали в Национальную галерею Лондона, где целый зал был отведен работам Тернера. Имя его во Франции не было широко известно, и знакомство с его в прямом смысле слова ослепляющими работами совершило в умах двух друзей, находящихся тогда в творческом поиске, настоящий переворот. Не пройдет и трех лет, как в Париже откроется первая выставка импрессионистов [220], которая станет для всего художественного мира настолько сильным потрясением, что живопись уже никогда больше не вернется к прежним канонам.
И невозможно отделаться от мысли, что без Тернера импрессионизм либо вообще не родился бы, либо родился значительно позже.
Что же увидели Моне и Писсарро в работах Тернера, что так вдохновило их на новые живописные эксперименты?
Они увидели свет. Вернее – всепоглощающую власть света над всем: над формой и цветом, над предметами и персонажами, над тонами и линиями. Свет у Тернера был материален, приняв вид солнечной дымки, покрывающей, словно паром, пространство его холстов и растворяющей в себе почти все предметные очертания, которые можно там распознать. Таким образом, Тернер за 40 лет до импрессионистов делает то, за что будет их клеймить еще один революционер в живописи Поль Сезанн [221]: своим светом он уничтожает цвет и форму, считавшиеся основой живописи, и ставит художника перед выбором – либо одно, либо другое, и никак иначе.
Однако кое-что отличало Тернера от импрессионистов, и отличие это проводит жирную линию между ним и его «идейными последователями», если так позволено будет назвать Клода Моне и его художественных единомышленников.
Дело в том, что целью Тернера не было изображение реальности и того состояния природы, что этой реальности сопутствовало. Ему куда важнее было погрузить зрителя в то эмоциональное состояние, которое, по его представлению, тот должен испытывать при взгляде на созданный на картине образ, являвшийся не чем иным, как плодом его воображения. Иными словами, художник не копирует природу и предметы в ней, а изображает свое воспоминание о том ощущении, что он пережил, столкнувшись с тем или иным природным явлением.
В основе же замысла импрессионистов, напротив, стояла передача реальных явлений природы посредством художественных приемов.
Живопись Тернера стремится стать посредником не между реальностью и ее изображением, а между своим ощущением от пребывания в этой реальности и эмоциональным состоянием зрителя после его рассказа о ней. Иначе говоря, он хочет, чтобы вы помыли руки не ради придания им чистоты, а чтобы почувствовать прикосновение холодной воды к коже и испытать то же приятное (или неприятное) ощущение от процесса, что испытывает он сам.
Для того чтобы лучше понять те теоретические выкладки, что моим терпеливым читателям пришлось вытерпеть, я предлагаю посмотреть на творчество «художника солнечной дымки» через самое цитируемое его произведение, получившее длинное название «Дождь, пар и скорость. Большая Западная железная дорога» [222].
Приготовьтесь укрупнять изображение этой картины на ваших экранах, ибо нам потребуются максимальные возможности зрения, чтобы рассмотреть несколько мелких деталей, являющихся, тем не менее, крайне важными для понимания замысла автора.
По виадуку [223] мчится поезд. Он не просто мчится, он врывается в поле нашего зрения из тумана и дождя, несется вперед с невиданной для современников Тернера скоростью в 95 км в час [224]. Эта железная машина, чудо механики и символ прогресса, бросает вызов природной стихии, вступает с ней в конфликт и – побеждает. Разве не это хочет показать нам художник, прокладывая эту четкую диагональ из правого нижнего угла в центр полотна, где она теряется за пеленой непогоды?