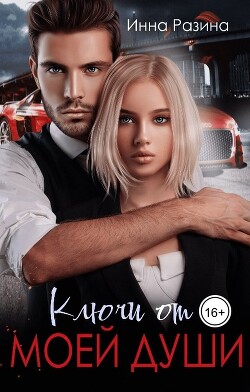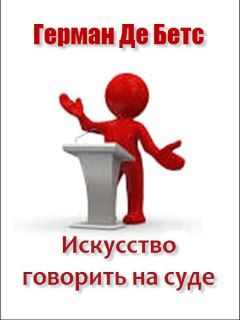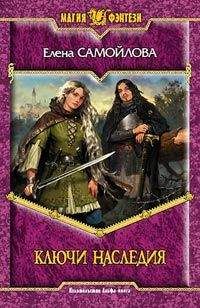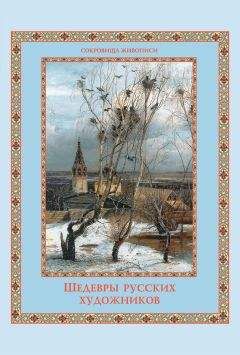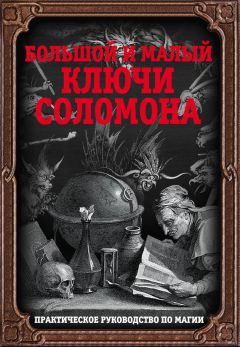Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
На первый взгляд, все так. И немало искусствоведов именно так трактуют замысел Тернера. Но давайте посмотрим на картину более внимательно.
У нее три героя, все они указаны в названии.
Дождь – это естественная, природная стихия. Пар – стихия искусственная, появившаяся в результате работы механизма, созданного руками человека. Сочетание этих двух стихий и изображает Тернер, заставляя их смешиваться друг с другом и участвовать в создании той самой солнечной дымки, мастером изображения которой он был. Казалось бы, перед нами мир, полный гармонии и взаимопроникновения между природой и прогрессом.
Но в названии есть третье слово, а на картине присутствует нарушающий гармонию пейзажа темный поезд, мчащийся по темному виадуку. Этот поезд и есть аллегория или даже метафора [225] скорости. Не собственно поезд изображает Тернер: он лишь использует образ поезда как самого быстрого средства передвижения, чтобы с его помощью показать саму скорость, третьего героя картины. Передать зрителю ощущение стремительного движения, вибрации и грохота несущейся мимо него машины – вот амбиция художника.
Дышащая паром железная машина рассекает картину по диагонали, а по другой диагонали залитое солнцем полотно рассекают струи дождя. Дождь – крайне сложная для живописи субстанция. Изобразить его решаются не все. Много «дождливых» картин приходит вам на ум? А на тех, что приходят, есть ли в реальности дождь? Или там лишь признаки дождя: хмурое небо, мокрый асфальт, люди под зонтиками? То-то же!
Тернер же обладает не только художественной смелостью, но и недюжинным талантом в изображении косого дождя. Мы видим, ощущаем порывы из воды и ветра, которые словно преграждают путь несущемуся вперед составу.
Но вот какая странность! Картина залита солнцем. Справа крестьянин невозмутимо и методично пашет землю плугом, который тянут две лошадки. Слева – лодка с вольготно расположившейся в ней парочкой. И дождь им нипочем! Да и нет над ними никакого дождя – ни над крестьянином, ни над мужчиной и женщиной в лодке! Только поезд, пышущий огненным паром, борется с ним!
Тернер одержим сочетанием и противопоставлением двух стихий – огня и воды, двух состояний – жара и холода. Эта борьба и это слияние показаны на его знаменитом полотне с небывалой даже для его гения мощью. Их борьба происходит словно в каком-то ином пространстве, даже в ином измерении. Где-то там, далеко внизу, залитые теплым и приветливым солнечным светом, маленькие люди совершают свои будничные дела – кто-то работает, кто-то развлекается. В то время как здесь, наверху (кстати, где – наверху?) идет страшное противостояние металла и стихии, прогресса и природы, Человека и Бога.
Новый мир с ревом, шумом и грохотом, сопровождаемый паром, сливающимся с облаками, вырывается из ниоткуда, проносится мимо нас и несется дальше, куда-то туда, в неизвестность.
А мы остаемся. Пока. Только вот где наше место? В каком из миров помещает нас Тернер? Мы точно здесь, иначе не могли бы видеть поезд так близко, но остаемся в стороне. Где конкретно то место, где мог бы встать испуганный этой «адской машиной» зритель, непонятно. Потому что его нет. Мы парим в воздухе. Но это не взгляд с неба, какой мы наблюдали у Альтдорфера или Брейгеля: поезд слишком реален и слишком материален, его железный путь слишком близко.
Тернер оставляет нас с этим вопросом. Он не заботится о зрителе и его комфорте, не хочет давать нам уверенность и твердую почву под ногами перед символом нового мира, пугающего самого художника. Вспомним то, о чем говорилось выше: Тернеру важно передать то ощущение от изображенного им явления, которое испытывает он сам.
Лодка и плуг – предметы старого, уходящего мира. Они остаются там, внизу, незаметные и незначительные, еле различимые в солнце и паре. Они – безвозвратно исчезающее прошлое. Металлическая стихия даже не замечает их, они находятся в разных системах координат.
А вот с зайчиком – другое дело! Увидели зайчика на путях, буквально летящего перед поездом в нашу сторону со всей своей заячьей скоростью? Сейчас он сливается с путями больше, чем в момент создания полотна. Такова, увы, судьба легких мазков масляной краски, нанесенных поверх уже готового сухого холста: они исчезают со временем.
Судьба зайчика нам понятна: поезд проедет по нему, даже не заметив этого. Крепкий безжизненный механизм – против живой трепещущей плоти.
В этом зайчике – ключ к пониманию того, на чьей стороне в противостоянии прогресса и природы находится сам художник. Он – с этим золотым миром, с зайчиком и лошадками, с лодкой и плугом. Здесь нельзя не провести параллель между картиной английского художника Уильяма Тернера «Дождь, пар и скорость» 1844 года и стихотворением русского поэта Сергея Есенина «Сорокоуст» [226] 1920 года, в котором поезду противостоит маленький наивный жеребенок, пытающийся вступить с ним в соревнование. Позиция Тернера и Есенина понятна, и иной она просто не может быть: два романтика – от живописи и от поэзии – непременно заступятся за живое против мертвого, за гармонию боготворимой природы против хаоса творимого человеком прогресса.
Уильям Тернер не был противником прогресса как такового. Он охотно пользовался комфортом поездов для своих английских путешествий. Но через всю его живопись красной нитью проходит восхищение природной гармонией и сожаление о невозможности сохранить ее под натиском неумолимо шагающей по его родной Англии промышленной революции.
Удивительным образом Англия, являясь локомотивом научно-технического прогресса в Европе, в то же время была страной с самым длительным доминированием романтизма в искусстве и литературе. Возможно, это действительно взаимосвязанные вещи, как мы только что увидели на примере творчества Уильяма Тернера.
Привлекательность Зла у Шеффера
На страницах этой книги много говорилось о художниках-новаторах, художниках-революционерах, художниках-бунтарях. Но большая живопись создавалась и кистью тех, кто работал в рамках классической художественной традиции и писал картины в полном согласии с установками Академии изящных искусств. Именно о таком художнике я хочу рассказать в этой главе.

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/sheffer.jpg
Ари Шеффер
Искушение Христа
1858, Лувр, Париж
Имя его Ари Шеффер [227], и даже если сейчас оно не на слуху, картины, подписанные им, украшают крупнейшие музеи мира.
Шеффер родился в одно время с Жерико и Делакруа, вместе с ними совершал первые шаги на пути к славе, а затем полностью разошелся во взглядах и на технику живописи, и на сюжеты, которые она должна отражать, и на героев, которых должна восхвалять. Его привлекали немецкие и английские романтики. Произведения Гете и Байрона будоражили его воображение. Шеффера, человека системы, близкого к семье французского короля Луи-Филиппа Орлеанского, покорили герои-борцы, бросавшие вызов обществу и его устоям. Демонические персонажи байроновских поэм, более похожие на антигероев, вдохновляли его куда больше, чем революционеры на баррикадах или жертвы кораблекрушения на плоту.
Ничего удивительного, что образ Князя Тьмы и Мятежного Духа как главного антигероя христианского мира привлекал и, скажу больше, очаровывал художника. Картина, о которой я хочу поговорить сейчас, стала ярким свидетельством этой очарованности злом, проявлявшейся в литературной и художественной романтической традиции вообще и в творчестве Ари Шеффера в частности.
Вернемся мысленно в XVI век, к картине Рафаэля «Архангел Михаил, свергающий демона», о которой шла речь в начале этой книги. Там была изображена сцена рождения зла на земле, та самая вселенская битва, что развернулась между Добром и Злом и принесла Добру всепоглощающую, ослепительную победу. Сатана у Рафаэля корчится от бессилия и унижения под легкой стопой Архангела, побеждающего его с нежной, даже игривой улыбкой. Таково было противостояние Света и Тьмы в эпоху Возрождения. Иным оно и быть не могло в Италии начала XVI века.