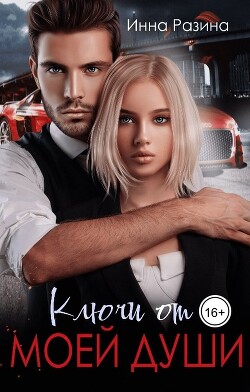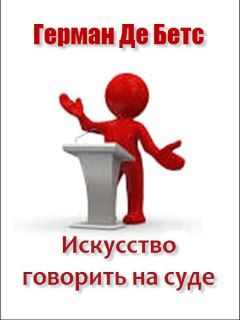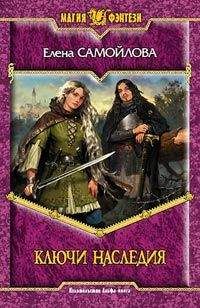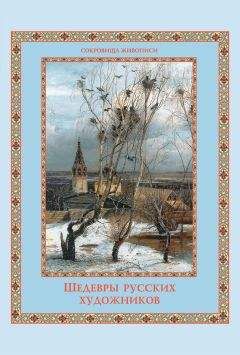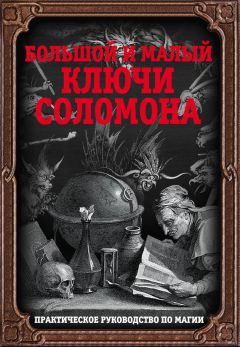Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Курбе, неугомонный и неистовый, целостный и честный, превративший свою живопись в громкий манифест, идеально подходит для того, чтобы его главная картина «Мастерская художника» завершила наше путешествие по великим шедеврам трех художественных эпох, сформировавших западноевропейское искусство.
В возрасте 47 лет он начал писать автобиографию, где сказал о себе в третьем лице следующее: «Он создал новое возрождение искусства, соответствующее современной философии» [234].
Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать: новый титан нового возрождения, основатель и теоретик реалистического направления [235] в живописи, несгибаемый труженик, создавший более 1000 картин большого и малого формата, предстает перед вами в центре собственного произведения «Мастерская художника».
Сам автор назвал ее «реальной аллегорией», а затем добавил, поясняя: «Внутреннее пространство моей мастерской, определяющее фазу семи лет моей художественной жизни» [236].
Довольно многолюдная картина [237] разделена на три части, в каждой из которых расположилась группа людей: слева – разношерстная и хаотичная, справа – более строгая и, если можно так выразиться, аристократичная. Центральная группа состоит всего из трех персонажей: самого Курбе, обнаженной женщины, стоящей за ним, и маленького мальчика.
Себя Курбе изображает за работой над пейзажем, который, по традиции того времени, он заканчивает в мастерской, следуя сделанным на природе наброскам. Это изображение его малой родины – департамента Франш-Конте. Мастер священнодействует: кисть в руке парит над холстом, лицо показано в профиль, отчего его знаменитая «ассирийская» борода [238] особенно заметна. С одной стороны, он как будто показывает что-то мальчишке перед ним, а с другой – откидывается в сторону обнаженной женщины у него за спиной, словно прислушиваясь, не скажет ли она ему что-то важное.
Два этих персонажа – ключевые для понимания замысла художника.
Кто эта женщина, стоящая за левым плечом Курбе, обнаженная на античный манер и прикрывающая свою наготу, скажем прямо, весьма небрежно, даже условно? О ней часто пишут как о модели. Но так ли это? Ее платье сброшено и лежит у ее ног. Зачем? Ведь мастер работает над пейзажем, внутри которого нет обнаженных фигур!
Эта женщина – не натурщица, она – Муза. Муза реализма, оттого-то и соткана из плоти и крови. К ней прислушивается мастер, на нее уповает, ее мнением дорожит и ее благосклонности ищет.
Впрочем, нет! Есть же еще крестьянский мальчик в драной грязной рубахе и сабо на босу ногу, смотрящий, подняв голову, на творение живописца! Лица мальчика мы не видим, но пребываем в уверенности, что он глядит на картину, раскрыв глазенки и открыв рот – не то от удивления, не то от благоговения. Курбе пользуется уже знакомым нам по картине Веласкеса «Венера перед зеркалом» приемом потерянного профиля: не показывая лица, ясно дает угадать и его черты, и его выражение.
Кто же такой этот мальчик, столь явно контрастирующий – прежде всего из-за своего возраста – со всеми остальными персонажами на картине? В его образе – все последующие поколения, у которых новая живопись Курбе не будет вызывать ни раздражения, ни отторжения. Крестьянский мальчишка – это мы с вами! Пророческое предчувствие, свойственное многим гениям, подарило художнику успокаивающую уверенность в том, что те, кто придут вслед за его современниками, поймут и примут его требование быть ближе к людям и природе при выборе сюжетов и методов их реализации.
Он – первый из живописцев, кто начинает творить не для своего времени, а для последующих поколений, – и открыто заявляет об этом через образ восторженного мальчугана, забежавшего на его картину из будущего.
Три персонажа центральной группы картины расположены по диагонали, внизу которой находится мальчик, наверху – Муза, а посередине – художник, как посредник между зрителями и вдохновением, как проводник, через который вдохновение спускается к зрителям.
Вокруг него собрались совершенно разнородные люди, не вступающие друг с другом в общение, существующие каждый сам по себе, словно не замечающие ни друг друга, ни самого художника. Они – как призраки, невидимые и невидящие, заполнили пространство вокруг мольберта, уподобившись идеям, незримо витающим вокруг мастера в ожидании, что он ухватит и увековечит одну из них.
Искусствоведы и биографы Курбе смогли «опознать» некоторых из них, принадлежащих группе справа. Так, читающий книгу молодой человек – это Шарль Бодлер, поэт и бунтарь, под стать самому Курбе. Там же расположился Пьер-Жозеф Прудон, теоретик анархизма и близкий друг Курбе, также увлекавшегося коммунистическими и социалистическими идеями. Бородатый мужчина справа в глубине, изображенный в профиль, – это Альфред Брюйас, единственный покровитель Курбе. Можно перечислить еще несколько человек, но в целом их личности не имеют большого значения для постижения замысла картины. Главное здесь – не конкретные люди, а то, как они представлены, – равнодушными и отстраненными, отделенными от художника эмоциональным и пространственным барьером. Они не понимают его – он не для них пишет.
Группа слева кажется нам еще более странной: эти персонажи словно сошли с картин Веласкеса и Риберы. Среди них можно заметить обнаженного мужчину, замершего в позе натурщика для картины, которая сейчас не пишется. В ногах у него череп, а сам он словно распят. Среди участников этой группы искать сходство с конкретными людьми бессмысленно: это типажи, образы, причем, как живописи современной, так и живописи прошлого.
Аллегория – вот то слово, которое сам Курбе использовал применительно к своей большой работе. «Весь мир, устремившийся ко мне, чтобы быть запечатленным» [239], – добавлял он. Такова была его мечта, его большая творческая амбиция. Которой не суждено было реализоваться при жизни.
«Мастерская художника» – яркий и смелый манифест 36-летнего живописца на пике своего таланта. Он страстно желал предъявить его миру. Но мир в лице организаторов Всемирной выставки в Париже в 1855 году отверг картину и не дал ей встретиться с публикой. Тогда Курбе при финансовой поддержке Брюйаса построил на Елисейских полях свой персональный павильон, на котором красовалась гордая надпись «Реализм» и в котором были выставлены все его значительные работы, созданные на тот день, в количестве сорока трех.
«Мастерская художника» заняла там особое место.
Павильон пустовал: на Всемирной выставке людям было, чем заняться.
Но был человек, не пожалевший ни времени, ни денег (вход в «Павильон Реализма» был платный), который не только посетил выставку Курбе, но и провел там больше часа – в гордом одиночестве.
Этим человеком был Эжен Делакруа.
Он, знаменитый и всеми прославляемый художник, живой классик, понимая, что эпоха романтизма приближается к закату, желал посмотреть, что идет ей на смену. «Мастерскую художника» он назвал «самым своеобразным произведением нашего времени» [240].
Творческая встреча этих двух имен – Делакруа и Курбе – крайне символична. Делакруа был последним большим художником классической живописной традиции, Курбе – мостиком между классической и новаторской живописью, тогда еще не оформившейся. Искусство ждало третьего, того, кто смог бы «соединить виртуозную кисть Делакруа с реализмом Курбе», то есть «взять за основу классические аллегории и композиции и “освежить”, придав им современное звучание» [241].
Таким художником стал Эдуард Мане.
Но этой истории требуется новая книга.