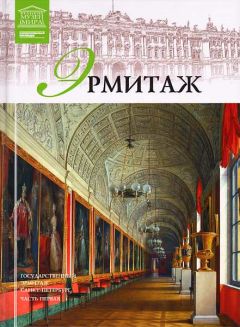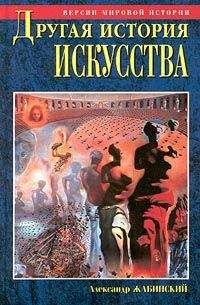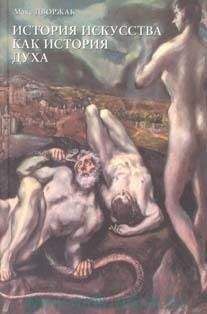Творение. История искусства с самого начала - Стонард Джон-Пол
Хокусай повсюду видел жизнь и поэзию. Рисунки, которые он начал создавать уже в конце жизни, воспроизводились затем в гравюрах на дереве и собирались в серии альбомов, состоявших порой из пятнадцати томов. Его манга (слово, означающее просто «наброски») представляют огромную палитру сюжетов: морских и наземных пейзажей, драконов, поэтов, божеств, растений и зарисовок природы — все они собирались на страницах альбомов, казалось бы, в хаотичном порядке, словно их поместила туда сама жизненная стихия.
«Большая волна» Хокусая — это портрет Фудзи, но она лишь виднеется вдали, словно ее вот-вот поглотит гигантская масса воды. Этот образ далек от уплощенного и нереального мира ранней японской живописи и гравюры, в нем заметны черты, которые Хокусай позаимствовал у европейского искусства — тех гравюр, что привозили в Японию голландские торговцы. Его ранние работы показывают, как он довольно неуклюже пытался применить математические принципы перспективы. Однако к моменту создания «Большой волны» он уже гораздо тоньше чувствовал глубину пространства. Строгие сходящиеся линии европейского перспективного рисунка превратились у него в плавные склоны священной горы.
Младший современник Хокусая, Андо Хиросигэ, принадлежал к сословию самураев и служил пожарным в замке Эдо — это ремесло он унаследовал от отца, и оно давало ему массу времени на то, чтобы совершенствоваться в искусстве укиё-э [456]. Он начал с гравюр, изображавших актеров и красивых женщин, однако начиная с 1830-х годов стал рисовать пейзажи по следам своих путешествий по Токайдо — большому тракту между мостами Сандзё в Киото и Нихонбаси в Эдо. В возрасте шестидесяти лет он начал свою самую известную серию гравюр «Сто знаменитых видов Эдо», изображающих город и его окрестности: святилища и храмы, мосты под дождем и снегом, праздники весны и осени, сады с цветущими сливами и вишнями, павильоны для любования луной, флаги с религиозными надписями, растянутые на бамбуковых шестах и полощущиеся на ветру, бурные водопады, людные торговые улицы, кленовые деревья и луны осеннего равноденствия, виды залива Эдо и берегов реки Сумида с непременными силуэтами гор Фудзи и Цукуба вдали.

Кацусика Хокусай. Манга (Том 9). 1819. Ксилография, бумага. 23 × 16 см
Характерный облик работ Хиросигэ во многом создан благодаря использованию берлинской лазури — краски, которая появилась в Японии лишь в 1830-е годы (впервые этот химический краситель был произведен в Европе несколькими десятилетиями раньше), — что придавало его картинам глубокую, неестественную яркость. Радужные переходы цвета создавались с применением техники бокаси, когда тушь наносили вручную на влажную печатную доску, так что берлинская лазурь неба на гравюре «Святилище Канда-мёдзин на рассвете» растворяется в белом, затем в оранжевом и красном цвете восхода. Одежды служителя святилища Эдо, изображенного справа, также градуированы в соответствии с оттенками рассветного неба. Три фигуры, стоящие спиной к нам, вглядываются в даль, быть может, ловя первые лучики восходящего солнца, скрытые от нас стволом кедра.
Виды Эдо у Хиросигэ — это образы, исполненные спокойного изящества, но столь же недолговечные, как и всё преходящее в этом «плывущем мире» укиё-э. Когда Хиросигэ начал свою серию, иностранные торговые суда уже пришли в Японию, бросив вызов ее уединенному существованию. Через год после смерти художника, в 1859 году, порт Йокогамы был открыт, что привело еще через несколько лет к падению владычества самураев, к которым принадлежал и Хиросигэ. Вскоре исчез и старый Эдо, чей облик хранят лишь композиции мастеров укиё-э.

Андо (Утагава) Хиросигэ. Святилище Канда-мёдзин на рассвете. 1857. Из «Сто знаменитых видов Эдо» (опубликовано в 1856–1859)
Что касается Европы, то здесь великими символами первой половины XIX века стали вовсе не наполненные светом и усыпанные розами луга Рунге или летние вечера Палмера, а холодные штормовые моря Фридриха и Тёрнера. «Слепой, соленый, темный океан» {29}, как писал о нем поэт Мэттью Арнольд в стихотворении «К Маргарите», стал одной из главных тем и сюжетов картин для художников той эпохи, словно сама судьба человечества оказалась во власти стихии безбрежного и холодного океана.
Лучше, чем где-либо, эта судьба воплотилась в большой картине, изображающей людей, терпящих бедствие на плоту. В июле 1816 года французский фрегат «Медуза» сел на мель у берегов северо-западной части Африки (современной Мавритании). Капитан, назначенный по протекции жалкий аристократ, и его офицеры сели в шлюпки, пригодные для морского плавания, оставив прочим членам экипажа и пассажирам самодельный плот, который бездушные офицеры отвязали, спеша поскорее перебраться на берег. Две недели после этого длился кошмар, где были и насилие, и голод, и каннибализм. Когда же наконец людей спасли, оказалось, что из ста пятидесяти выжили лишь пятнадцать, но вскоре умерло еще пять. На огромном полотне (491 × 716 см), выставленном на Салоне 1819 года, французский художник Теодор Жерико показал самый драматичный момент, когда выжившие заметили вдали судно «Аргус», которое могло бы их спасти раньше, но исчезло за горизонтом и заметило их только на обратном пути [457].
Жерико узнал об этой истории из книги, написанной двумя выжившими — врачом и инженером «Медузы» Анри Савиньи и Александром Корреаром, которые подали иски к властям, чтобы получить компенсацию. Он превратил их страшное свидетельство в полотно, изобразившее современную трагедию в глубоко политическом ключе. Его картина бросает аристократам, которые отвязали плот, недвусмысленное обвинение в безразличии к жизни простых людей. Жерико проложил путь живописи, в которой выразилась вся ярость и энергия революции, однако перевернул ее с ног на голову, раскрыв скорее никчемность идеализма и скорбь человеческого бытия, но в то же время показав, как подобная трагедия может стать частью политической борьбы за перемены.
Жерико создавал свою картину на основе многочисленных этюдов и эскизов, согласно обычным академическим правилам написания таких крупных живописных полотен. Художник даже писал этюды отделенных частей человеческих тел в местном морге, готовясь показать леденящие душу сцены каннибализма и разложения. На одном из таких полотен мы видим отрезанные ноги и руки, лежащие отвратительной кучей, выхваченной из тьмы. Они напоминают руки и ноги святых у Караваджо, с той лишь разницей, что грязные от сажи ноги с грубыми подошвами у Жерико отделены от тел. Жерико держал человеческие останки, в том числе отрезанные головы, в своей мастерской, пока они не разлагались настолько, что он вынужден был от них избавиться.
Образы людей на плоту писались как с профессиональных моделей, так и с восковых фигур. Кроме того, Жерико просил позировать своих учеников — в том числе и двадцатиоднолетнего художника Эжена Делакруа. Эжен согласился лежать полуголым в мастерской Жерико на полноразмерном макете плота, заказанного у плотника, пока художник делал с него наброски, представляя, как лучше показать мертвого или почти мертвого человека (мы видим его фигуру в центре, на переднем плане, лицом вниз, с вытянутой рукой), передать бледные оттенки кожи, как у тех трупов, что он писал в больничном морге.
Позднее Делакруа пришел в мастерскую Жерико, чтобы увидеть большую картину. Вместо того чтобы расценить свой мертвый образ как дурное предзнаменование, он увидел в нем новый идеал красоты, исполненной ужаса, что произвело на него глубокое впечатление. Всю жизнь Делакруа будет развивать это странное представление о красоте, как будто пропитанной противоположными ей мотивами — жестокой грубостью и нескладностью форм, зачастую вызывающих почти отвращение. Тот же идеал он находил в поэзии и литературе — в книгах Шекспира, Гёте, Байрона и Вальтера Скотта [458]. Ясным формам и сдержанному колориту академической живописи — прежде всего Жака-Луи Давида — Делакруа противопоставил мрачный и неистовый жар романтической фантазии.