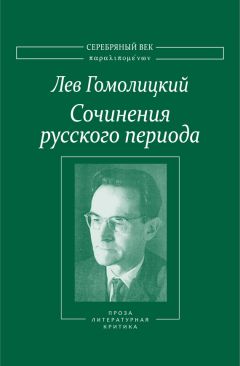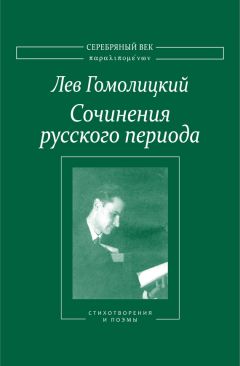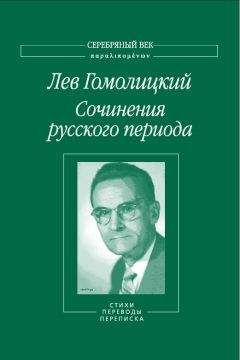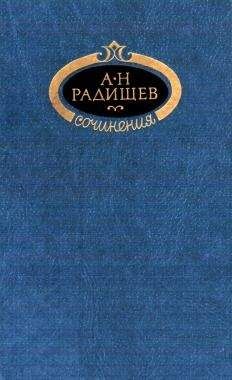Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
Спасенная душа ищет вместе с Ноем и кличет: «эй, Господи, где ты?» И Господь отвечает на ее зов:
«За то, что ты спасал для праведных селений
Стада надежд и стаи слов...
Что из трясин и бездн ты вывел непролазных
И в горьких водах вел ковчег;
Что огибал обман и острова соблазнов
И шел на свет, и не спросил - зачем...
И в каждом шелесте стерег и слушал голос,
Что реял над тобой всегда...
Я видел - высока была работа.
Взгляни на Судные весы:
Ты был упрям и тверд в борьбе водоворота,
Приветствую тебя, мой сын!»[133]
3
Смысл второго завета - утверждение через Бога полноты бытия. Чтобы радость жизни не стала соблазном, Господь освещает ее, завещая человеку. Но, чтобы очистить желание, Господь проводит душу через испытания Авраама, веля ей:
Возьми в охапку хлам земного дома,
Все радости, все горести твои.
Подъемли груз бесстрашными руками.
Возьми с собою нож, огонь, дрова,
И понеси на жертвенные камни,
Где - прах и соль, где выжжена трава.
Там всё, чем тщетно тешился ты ныне,
Все скудные дела твоей земли.
Ты обложи пылающей полынью
И преданно и твердо заколи[134].
Но в последний момент рука Господня удерживает послушный жертвенный нож, и голос небесный заключает завет:
«Я, испытав тебя огнем закланья,
Тебе велю: живи, мой сын, живи.
Не бойся снов и яростных желаний,
Не бойся скуки, горя и любви.
Будь на земле, живя и умирая,
Земные ведай розы и волчцы,
К тебе из музыкальных высей рая
Слетаться будут частые гонцы.
...Вот мой завет: не бегать слез и смеха,
Смотреть в глаза любимым и врагам.
...Не бегать благ и дел юдоли узкой.
Но всё приняв, за всё благодарить...
Осуществлять себя. Плодотворить[135].
4
С кем заключил Бог эти заветы? С Довидом-Ари бен Меир - потомком потомков того племени, которое Он провел через пылающие пески пустыни в землю обетованную - или с поэтическим воображением Довида Кнута, медвежьей походкой («свой малый путь пройдя стопой медвежьей, с медвежьим сердцем, новым и простым»)[136] идущего по садам русской поэзии?
Что случилось, что Кнут так легко променял свое божественное первородство на чечевичную похлебку отчаянья одиночества, пустоты душевной, бросив Бога и свою судьбу на тротуары Парижа под свои «хрустящие галоши» –
О Боге, о смерти хрустели галоши[137].
Древняя священная судьба Израиля, тысячелетия бродящее вино - на тротуарах Парижа, где небо - сырая пустота, где стоит рядом кто-то «вонючий без имени, без отчества»[138], вместо реявшего всегда голоса над избранною душою.
Слово за словом поэт изменяет заветам, положенным между ним и Господом. Ковчег плывет, но напрасны были видения райских берегов, - дух Божий больше не витает над ним, его захлестывают воды потопа, кругом стерегут рифы соблазна, и нет уже ни надежды, ни воли. Это - «бутылка в океане», в стихии человеческого равнодушия - торопливые слова, безмолвный крик о гибели, закупоренный крепко.
Блуждание в пустыне не исход - люди идут не в страну обетованную сквозь испытания, они –
Завлечены обманом
В бесплодные, безводные пустыни
И брошены на произвол судьбы!
Это - час «непоправимого жизнекрушенья»[139].
Тысячелетняя душа знает, что помощь может быть только от руки Бога, и, отказавшись от нее, не верит в спасение. И вот в судьбе отступившего ветхозаветный Бог дает знаки своей славы, как сказано: «Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставляю Господа - источник воды живой...[140] Гнева нет во мне, но, если кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду против него, выжгу его совсем»[141].
И душа уже сожжена, осталось только тело - «двойник и заместитель», «спокойный, твердый, мужественный друг»; он подменит своим подобием жизни то, что умерло уже давно:
Займется снова разными делами,
Напишет за меня две-три открытки.
Раскланяется вежливо с знакомым
И спросит: «как живете, как здоровье,
Что - мальчик ваш...» и скажет: «приходите»[142].
Но нет вкуса к жизни - глаза подернуты тоской и сознанием гибели, «Стада надежд» рассеяны, умолк небесный голос, и Кнут уже спросил «зачем?»
Мой Нерадивый Фонарщик,
Зачем Ты меня возжег?
Поставил распахнутым настежь
На ветру четырех дорог?[143]
«Камня тяжелее»[144] теперь каждое слово поэта. Живой источник иссяк, остались неподвижные серые камни. Кнут говорит:
Уже давно с трудом и неохотой
Беру я самопишущую ручку,
Чтобы писать не письма деловые,
Не счет белья, сдаваемого прачке,
Не адрес телефонный, а - стихи[145].
И каким же холодом опустошения веет от этих стихов:
Отойди от меня, человек, - я зеваю.
Этой страшной ценой я за жалкую мудрость плачу.
Видишь руку мою, что лежит на столе, как живая –
Разжимаю кулак и уже ничего не хочу[146].
Поэту теперь кажется, что за прежнюю веру - нынче «жалкую мудрость», он платит этой страшной ценой опустошения. Он не сознает, что это горит на нем его древнее имя, которое озаряло его, когда он был покорен своему Отцу - тому, Кто - Просвещает тьмы, а теперь жжет мстящим уничтожающим пламенем.
«Гнева нет во Мне, но, если кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду против него, выжгу его совсем»[147].
5
Пав на землю, гонимый Господним гневом, Кнут жесточе переживает грех любви и жизни, находит для них потрясающие слова; теснее жмется к людям, ощущая всё их и свое бессилие. В отчаянии упрямо повторяет:
Я жить хочу и буду жить и жить
И в пустоте копить пустые строки[148].
Но жизнь эта именно та, о которой он сказал: «я еле был - в полунебытии»[149].
Это - ночь, первобытная ночь,
Та, что сеет любовь и разлуку,
Это - час, когда нечем помочь
Протянувшему слабую руку...
Ночью даже счастливого жаль.
Люди ночью слабее и ближе.
Расцветает большая печаль
На ночном черноземе Парижа[150].
Так же слепа стала для него и любовь - «допотопная радость»[151], а теперь - «западня», «час густой и древней муки», соблазн, когда надо «прятать от себя свои же руки, дрожащие от жажды и тоски»[152].
6
Путь Кнута не кончен, но ясно, что он может идти по нему только в двух направлениях - к Богу, навстречу обещанному спасению, осуществляя заветы, или от Него - в гибель, в небытие, потому «Отступающие от меня будут написаны на прахе»[153]. Иных дорог для поэта нет, так как судьба Кнута - это древняя судьба Израиля, а душа его - арена, на которой продолжается состязание Бога с его народом.
Но почему же Кнут так близок нам? Не наша ли это тоже судьба? Не блуждаем ли и мы по пустыне, не ищем ли и мы земли обетованной, когда наши глаза слепит раскаленный песок и, может быть, в отчаяньи мы готовы разбить наши скрижали и насмеяться над нашими надеждами?..
Кроме того, Кнут среди нас, в нашей толпе, в нашем быту. Фон, на котором происходит богоборчество Кнута, - столица мира Париж. Поэт пришел из своих тысячелетий на его асфальты, в его глыбы «железо-бетонно-кирпичные»[154] и взглянул на него глазами древнего кочевника. Во всем, на что бы ни глядел он, что бы ни встречал в окружающем мире, он видит отражение и слышит отголоски того, что некогда происходило в пустынях Ханаана и на песках «горячей Палестины»[155]. Улица, кишащая людьми и машинами, представляется ему наполненной ревущими стадами; городской шумный день, воздвигающий свою вавилонскую башню, - это Иерихон, гибнущий от «космической музыки ночи»; старый дом, возвышающийся над крышами, напоминает ему ковчег: