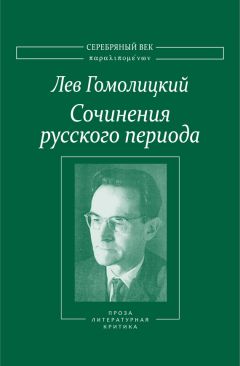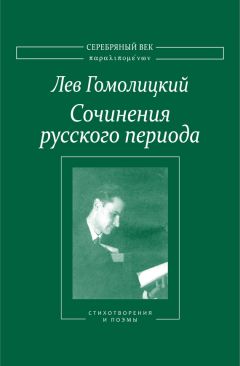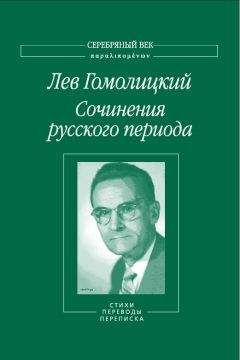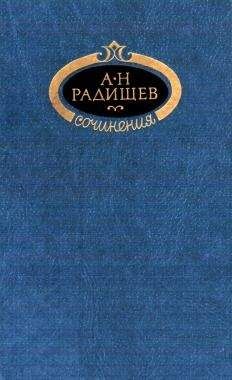Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
К этой концепции как нельзя близко стоит как раз Достоевский, едва ли не самый религиозный писатель своей эпохи. И применение к нему в этом месте именно ее в ее чистом виде, а не в переложении ученого, казалось бы более естественным и оправданным. Достоевский не только мистик, Достоевский - моралист, разбросавший сначала «цветник» своих изречений по страницам романов рядом с жесточайшими картинами человеческого падения, а потом сделавший попытку собрать его в житье старца Зосимы, имеющем самостоятельную, как богословскую, так и художественную ценность.
Как бы то ни было, для меня остается ясным, что если не здесь, в этой книге о трагедии и грехе отверженности, сохраненной в рамках психоанализа, то в той будущей, проектируемой, почти обещанной нам А.Л. Бемом, - о «жизни живой», ему неизбежно придется применить иное высшее мерило к «литературной биографии» Достоевского.
Меч, 1938, № 29, 24 июля, стр.6. Подп.: Г. Николаев. Рецензия на книгу: А.Л. Бем. Достоевский. Психоаналитические этюды (Прага: Петрополис, 1938).
Средства современной поэзии
В витрине Туристического бюро разложены пестрые проспекты. Под стилизованною картой Африки белый океанский пароход плывет на фоне заката, мчатся классические квадриги, бьют хрустальные фонтаны, римский виадук протянулся над тростниковой хижиной сомалийца, возле которой стоит «шоколадная нежная дева»[572].
Читатель простит мне невинный обман, простит мне его и гордость нашей зарубежной поэзии, Антонин Петрович Ладинский, из поэмы которого «Стихи о Европе» заимствовал я сей декоративный монтаж.
А вот другой пример из едва ли не лучшей поэмы того же Ладинского «Похищение Европы». На протяжении 3-х первых строф Европа здесь, как оборотень, принимает вид: 1. летящего голубка, 2. отплывающего корабля и 3. похищаемой Европы - «бык увлекает тебя». Перед нею проносятся покидаемые ею земли, а через строчку мир уже сам отплывает, как льдина, - плывет Европа - часть света: «снимаются с якоря горы, деревья, дома»... Всё тут неуловимо, противоречиво, неизменно одно - красивость образа, основанная на его вторичности. Тут и мрамор руки, и прощание, и роза, и голубок, и затравленная лань, и шоколадная нежная дева. Да и сама тема - гибнущая, подобно древнему Риму, Россия? - культура? - поэзия? - Европа?..[573]
Будь Ладинский живописцем - он писал бы декоративные панно, - так хочется подумать. Но едва ли это справедливо. Каждое искусство имеет свою судьбу. Для нашего времени судьба русской поэзии сложилась так, что поэт не может освободиться от закона красивости. В этом смысле Ладинский характернейшее явление - недооцененное, несмотря на все похвалы критики. Он весь плоть от плоти традиции нашего посимволизма[574]. Гумилев, Кузмин, Георгий Иванов, Ладинский - линия непрерываемая.
Но и для поэтов других школ характерна та же зависимость от закона красивости. Пристрастие к вторичным образам (литература, живопись, музыка), та или иная степень декоративности. Особенно очевидно это в поэзии современного пражского «Скита», занявшегося очищением стиля Пастернака от сниженных образов и вульгаризмов.
Тот же процесс перехода от поисков и новаторства к стилизации происходит на наших глазах последних 2 десятилетия и в подсоветской России. Различен был метод, сущность же - одна. Литературные традиции кристаллизовались, приемы канонизировались. Создавалась картина своеобразного византинизма. Для того чтобы это стало очевидно, достаточно припомнить язык того же Пастернака <в сборнике> «Поверх барьеров», Маяковского, Хлебникова, Андрея Белого, так, как они идут в обратном порядке в истории русского новаторства.
С первого взгляда стиль нового поэта может показаться робким. Его декоративное искусство - путем наименьшего сопротивления. На самом деле он - в рабстве у истории.
Мы присутствуем едва ли не при новом расцвете русской поэзии. Только в лучшие ее времена было у нас столько больших поэтов, столько одаренных стихотворцев, столько хороших стихов и даже столько смелых попыток найти новое слово. Смешно при этом говорить о каком-либо кризисе. Но все эти смельчаки остаются всё же, перед лицом истории, неудачниками, а главная их заслуга всё в новых и новых полугениальных неудачах.
Нельзя безнаказанно приходить на свет в годы, слишком близкие к периодам таких головокружительных новаторств, какими были первые два десятилетия XX века для русской поэзии. После них каждое новое открытие кажется подозрительным, а простота - особой изощренностью бессилия. А ведь искусство (и это закон, не считающийся с историей!) немыслимо без поисков нового. Да, без «новаторств», если угодно.
В подсоветской России положение осложнилось еще вмешательством в дела поэзии власть имущих. Декретом свыше «новаторства» там запрещены, вменены в государственное преступление, окрещены «трюкачеством» и «формализмом». Оставалось стихотворчество, ищущее себе образцов где-то посредине между Плещеевым и Некрасовым, но которому всё же была ближе никитинская скромная муза.
Однако вкусы подсоветского поэта были отравлены символизмом, последствий которого невозможно же упразднить никакими декретами. И вот на новой почве расцвела поэзия компромисса. Получилась смесь футуризма с никитинщиной, изощренности с наивностью. Словом, новый вид стилизации.
Эпоха эта по праву должна быть названа по имени поэта Заболоцкого[575].
Читатели, наверно, еще помнят историю его злополучной колхозной идиллии, «по недосмотру» появившейся в печати - в «Звезде»[576]. После нее Заболоцкий умолк на два года. В конце прошлого года Гослитиздат выпустил «Вторую книгу» Заболоцкого, с виду благонамеренную и заканчивающуюся одой Сталину:
...план, начертанный рукою исполина,
перед народами открыт.
Но сколько же в ней тайного растлевающего яда! Сколько затушеванного прутковского утрирования тематической и стилистической, и даже просодической наивности досимволических русских стихов, соединенного с гротеском Андрея Белого - его чеховщиной и достоевщиной. А над всем этим господствует дух вновь открытой стилизаторской школы - то, что и создает легкое, призрачное очарование стихов Заболоцкого.
Бык, беседуя с природой,
удаляется в луга,
над прекрасными глазами
стоят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
лежит тихо между трав,
то смеется, то рыдает,
ноги в землю закопав[577].
Ну, разве это лишено детского, наивного шарма, мастерски «сделанного» талантливою рукою художника. Разве это не сродни - только совсем в иной манере - панно кругосветного плавания Ладинского.
Невозможно поверить ни наивно-материалистической философии стихов Заболоцкого, ни, например, гротескной мрачности их героя, Лодейникова –
Как бомба в небе разрывается
и сотрясает атмосферу –
так в человеке начинается
тоска, нарушив жизни меру.
...И он лежал в природе, словно в кадке,
совсем один, рассудку вопреки...[578]
Чего только стоят эти гротескные эпитеты Заболоцкого: прозрачные очки, медведь продолговатый, пышный бык и проч.
У Заболоцкого есть совсем серьезные стихи, писанные как бы «про себя» (по термину Розанова). Но и они двоятся неизбежно на общем фоне его стиля, как двоятся официальные оды северу («Седов», «Север») и Сталину («Горийская симфония»). Впрочем, и здесь у него зависимость (от Пастернака, напр., в «Ночном саду») либо реминисценции («Вчера о смерти размышляя...»)[579].
Книга его, как, кажется, и все лучшие книги нашей современности - представляет собою поле борьбы таланта с непреодолимым окаменением застывающих традиций.
Меч, 1938, № 33, 21 августа, стр.6.
Голубь над Понтом
Наша эмигрантская молодая литература кажется слишком робкой для ответственных исторических тем. Не боится их один Ант. Ладинский. Роман с Клио начался у него с первых сборников стихов, и вот уже выходит из-под его пера второй исторический роман. И сразу бросается в глаза: Ладинский ищет в истории аналогий своему времени. Невольно от последних лет Римской империи (XV-ый легион), осаждаемой варварами, гибнущей, изнеженной Византии («Голубь над Понтом») мысль его обращается к России, к современному дряхлеющему цивилизованному миру...
«В печальное время посетила мир душа моя, - говорит герой “Голубя над Понтом”, патриций Ираклий Метафраст: - мы прожили ее (жизнь) в страшную эпоху, когда всё рушилось, когда не было уже никаких иллюзий».