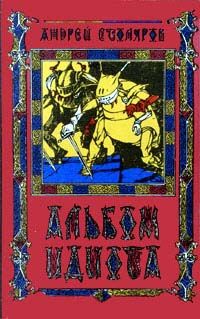Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
– Таких, как Венцлова, верных попутчиков, мы почитали сволочью.
Лидер левого инакомыслия:
– В тридцатые годы мы слушали Москву, как сейчас – “Голос Америки” [55].
Воспитатель ровесников. Лучший из них, первый поэт Литвы Коссу-Александришкис вспомнил о нем в мемуарах, в Америке, как о погибшем.
Летом сорокового, при нехватке кадров, его назначили председателем комитета по делам искусств.
– В комитете нас было я и моя секретарша.
Благо советской власти: в католической Литве развода не было; теперь же, в 1941, он, свободный, женился на Дануте Гумовской.
Эвакуироваться в голову не пришло. Немцам пришло в голову, что член правительства знает явки. Пытали током. Он пытался повеситься. Тогда немцы утром, зимой, выбросили его на улицу. От Лукишек до Антоколя он добирался весь день.
Знакомый доктор, во избежание, взял его в сумасшедший дом. Повел по лечебнице, сзади дежурный немец. Вдруг тощий усатый поляк, пилсудчик, бросился к нему, лобастому и залысому:
– Здравствуйте, Владимир Ильич! Я – Дзержинский.
Немец, к счастью, не понял.
После гестапо Воркута показалась отдыхом:
– Начальник лагеря говорит: у тебя хороший почерк, будешь моим писарем. Но если к куму ходить станешь – голову оторву.
– Новая партия. Поэт Аркадий Штейнберг, из Москвы. В новом костюме. На лесоповале сел на бревно и просидел весь день. В белых перчатках. И никто его не тронул. Говорит: – Я в законе. – Ну, интеллигенция к нему с почтением. А тут ему посылка пришла. И сразу брюки у него пропали. Единственные. Вечером приходит к нему блатной: – Один наш, понимаешь, нашел твои брюки. Он тебе отдаст – только ты с ним поделись. – Все смеются: вот, значит, в каком законе. Отношения с блатными у нас были идиллические…
После срока – Сибирь.
– В Литве у меня туберкулез был. В Сибири от здорового климата все прошло.
Жене его Дануте пришлось хуже.
Арестовыватели по инструкции совали маленькой Ванде конфетки. Она простояла всю ночь в кровати, не взяла ни одной.
На следствии литовки спасались народным способом. Когда спрашивали о ком-либо из знакомых мужа, тотчас тупили взоры и бормотали:
– Мне о нем неудобно. Я с ним в близких отношениях…
Пуритане из МВД с ненавистью плевались на поголовный разврат.
В Сибири село предупредили, что привезут фашисток. В пристанционном сарае одна из прибывших сразу стала рожать. Родихе село понесло молоко, мед.
Чахоточная Дануте была на лесоповале учетчицей. На работу ходила босиком по снегу. Председатель увидел, велел выдать валенки.
В русской школе Ванда ни с кем не дружила. Часто уходила на сопки плакать. Училась когда как:
– Я все знаю, а как подумаю: зачем говорить?
После смерти Сталина ссыльных вернули. Пятрас сетовал:
– Я в лагере столько людей насмотрелся, что не могу больше. Новый человек, а я взгляну и знаю, что он скажет, что будет делать. Так.
Отмалчивался даже дома, среди своих. Своевольный, безумный, тайно писал, ни с кем не считался, страдая, мог в три часа ночи запустить на всю холодную квартиру любимое трио “Памяти великого артиста”.
Дануте как могла, опекала несчастного любимого мужа.
Его не реабилитировали: отбыл срок; но ценили – дали большую непригодную для жилья квартиру, устроили синекуру в музее. Обзессии находили и там: пропадет янтарик – он сходит с ума, уверен, что все думают на него.
Мы встречались по большей части в Паланге. И там он сторонился своих – снимал отдельно, пусть даже в комнате с посторонним. Отдохнувший, сияющий, улыбался отцовской улыбкой; развеселившись, порой хохотал до слез.
На закате у моря любил пофилософствовать:
– “Гамлет” – чисто русская драма. Англичанам ее не понять.
– Если вдуматься, Софронов и Грибачев должны быть лучше, добродушнее нас – у них есть общее дело.
– Чюрлёнис был первый абстракционист. Писал абстрактную картину, но не верил себе и по готовому рисовал ангелочков.
– Чюрлёнису сифилис раздвинул границы. Что же лучше – гений и сифилис или ничтожество без сифилиса? Вопрос Фауста, то-то-то!
– Если писатель не будет эгоистом, то ничего не напишет.
– Иосифас Бродский – это молодой Гёте.
– Томас – единственный поэт в Литве. Его не печатают. Предложили написать какую-то брошюру по семиотике – и он согласился! Это как если бы Паганини предложили играть в кино перед началом сеанса, и он согласился!
– Литовцы – оппортунисты по душе. Идут на любые компромиссы.
– В Литве не существует подпольной литературы. Все пишут только в издательство. Никто не хочет писать для себя.
– Раньше переезжаешь границу в Кенигсберг – на сто лет вперед, теперь – на сто лет назад.
– Все бумажные деньги до сих пор стиля сецессии. Тогда был расцвет буржуазии.
– В буржуазное время в Литве асфальт был только на Лайсвес-аллее. Если сейчас провести референдум о независимости – неизвестно, за что литовцы проголосуют.
– Литовцы целый век правили русскими княжествами. Чернигов. Смоленск. Киев. Никакого захвата не было. Географическая Литва – источник, откуда русские сто лет брали князей и войско для защиты от кочевников. Историческая Литва началась на русской земле. Литовцы взяли у русских государственность и официальный язык. Произошло взаимопроникновение. Отношения русских с литовцами были идиллические…
Последний раз я видел благодушного сияющего Пятраса Юодялиса летом шестьдесят восьмого года.
Перед смертью он сжег неопубликованное, написанное для себя:
“Загадка Гамлета”,
“Чюрлёнис”,
“Литовский век”.
Лауцявичюс – rara avis – литовец-протестант. Европейский эксперт по старой бумаге и водяным знакам. Тоже писал для себя – есть неопубликованная монография. На вид – российский барин девятнадцатого века в халате.
До войны работал в посольстве в Лондоне. В тридцать девятом вернулся – не в Каунас, где его все знали, а в новоприсоединенный Вильнюс. Дом на окраине, высокий забор: ВО ДВОРЕ ЗЛАЯ СОБАКА.
Дом – музей. Всегда собирал антиквариат, особенно преуспел в оккупацию. Ходил с Юодялисом по брошенным домам, искал брошенные антики. При немцах через его дом на окраине, на высоком заборе: ВО ДВОРЕ ЗЛАЯ СОБАКА – прошло много бежавших из гетто.
– Как-то так получилось, что я всегда с евреями. С детства. И в войну это так. Само собой. Но они меня и отблагодарили! Я не сидел ни разу. Как соберутся сажать, всегда знал, что кому принести. Богатый у меня дом? Так это ничто по сравнению с тем, что у меня было. “Генерал хочет жене на день рождения бриллиантовый перстень”. И еще сколько карат, не меньше.
Всех сажали, а бывший дипломат разгуливал на свободе и даже преподавал английский в консерватории. Естественно, о нем стали говорить плохо. Юодялис, давний его приятель, клялся, что Лауцявичюс чист. Если не Юодялису – кому верить?
Снечкус – единственный первый секретарь, продержавшийся с довоенных времен. Томас Венцлова рассказал, что, когда Никита распорядился засеять Литву кукурузой, деревенский Снечкус докладывал наверх о перевыполнении, а сам тайно приказал сажать кукурузу живой изгородью вдоль шоссе.
Я видел Снечкуса один раз, в Паланге.
В полусумерках после заката он возвращался к себе с дачи Вилли Штофа, шел вдоль моря, пошатывался, ворчал песню, мужик.
Справа и слева, отстав на полкорпуса, шагали охранники.
В кустах на дюне заспорили старшеклассницы: йис – ня йис, он – не он? Две сбежали, взглянули в упор, взвизгнули:
– Йис! – и скрылись.
И сам и охранники словно их не заметили.
Назавтра я встретил стариков Венцлова и рассказал. Антанас не мог резюмировать и жевал губами. Лизочка воспарила:
– Милые девочки! Они, наверно, хотели сказать ему что-то очень хорошее.