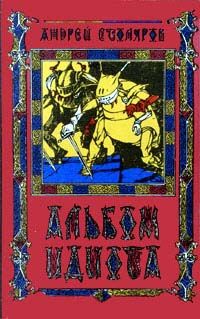Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
Это Молотов. Я хорошо знал – мы часто встречались по работе – Алексиса Леже. И представления не имел, что это великий Сен-Джон Перс.
…Утром 21 августа 1968 года я, как обычно, спустился на кухню к хозяевам. Они молчали и глядели издалека. В тот день Паланга была обыкновенная.
Назавтра на мужском пляже прикрытые от солнца рубахами вовсю по-русски орали транзисторы. Голос круглосуточно передавал о радиовойне, толпах, пропаже дорожных знаков.
Этот день я провел на пляже с Урбшисом. Он расспрашивал о работе: сам стал переводчиком, перевел на литовский Манон Леско.
Рассказывал:
– В сороковом меня выслали. Маленький городок под Владимиром. Это поразительно, как русские ткачихи хорошо относились к нам с женой. Арестовали меня 22 июня 1941 года. Я провел одиннадцать лет в одиночке и никогда не скучал. Всегда есть что вспомнить. Как я в детстве любил выходить к поездам… Когда Лубянку эвакуировали в Саратов, там было очень скученно. Знаете, неприятно иметь дело с нервными озлобленными людьми. Один раз в мою одиночку поместили армянина, редактора Московской правды. Он обижался, что я ему не доверяю. А как я мог ему доверять: он же коммунист! Вскоре его расстреляли. Как-то открывается дверь – ревизия, начальник тюрьмы и инспектор из Москвы:
– Жалоб нет?
Я совсем размечтался, говорю:
– Что вы, какие жалобы, я тут почти счастлив.
И тут вижу, что он мрачнеет, и понимаю, что нарушил правила игры. Поскорей исправляюсь:
– Голодно здесь.
Он улыбается:
– Все, что вам положено, вы получаете…
Обвинение мне предъявили через одиннадцать лет, в пятьдесят втором году. Вызывает следователь:
– Вы обвиняетесь в пособничестве мировой буржуазии.
– Помилуйте, в каком пособничестве! Я и есть мировая буржуазия…
Когда мы прощались, Урбшис сказал:
– Я вам так благодарен, что мы ни слова весь день не сказали о Чехословакии. Ну подумайте, что мы могли бы сказать друг другу?
1979
жемайчю кальвария
Автобус ахнул: русские сходят в Кальварии!
Палангская Люся привезла нас к родителям.
Мама встречала величественно, на холме. Папа в ограде заходил чортом:
– Гости дорогие! Я – Юозас, по-русски Осип. Фамилия – Даугнорас, значит – много хочу. Я всегда много хочу. Ай, дверь низкая!
Дому лет полтораста, ровные корабельные сосны. Мама выносит моей жене расшитое полотенце. Папа тянет с дороги на Вардуву́. Купаются здесь в кальсонах и отдельно от женщин. Папа ликует:
– Я по-русски лучше всех говорю! При царе – два года учился, Николаевская гимназия в Паланге. После войны – шесть лет учился в России. Мне следователь руку сломал, до сих пор мешает. Вон та маслобойка была моя, и поле за речкой мое. Мне не жалко. Я все равно живу лучше всех!
К обеду нежданно, как мы, явился из Салантая сын Витас, продавец рыбного магазина: подвез попутный начальник милиции, который сел вместе с шофером за стол.
Сервизных тарелок-ложек хватило на всех. Первое – холодный борщ с ведром горячей картошки. Второе – мясо и рыба, кто что захочет.
В анекдоте жемайтис выставил на стол все, что было, и пошел в поле работать. Аукштайтиец налил чаю без сахару и занимал разговорами. Занямунец ничего не дал и ничего не сказал.
В Паланге мне говорили, что в здешнем костеле роскошное собрание облачений и утвари, а настоятель приторговывает смуткя́лисами, резными фигурками святых. Я спросил, как пройти. Папа хмуро показал:
– Сам не пойду. Я с ним давно поругался.
Настоятель был в отъезде. Домоправительница отвела к алтаристу.
Маленький сгорбленный старичок нас благословил.
(Когда мы вернулись, папа радостно об алтаристе:
– Пуки́с – хорощий человек. Пукис значит Пухов.
– Не хороший, а святой, – поправила Люся.)
Алтарист объяснил:
– Вам надо найти закрастийо́наса, – и на бумажке с печатью епархии дрожащей рукой вывел ради нашего безъязычия: “Кур чя гивя́на по́нас закрастийо́нас? – Где здесь живет господин церковный староста?”
Молодой парнишечка развернулся у дома на мотоцикле, извлек из-за пазухи и шикарным жестом вручил цветастой девке пачку небольших грампластинок.
– Я закрастийо́нас. Только не по́нас. Я по-русски могу – только из армии.
Он тут же отвел нас в храм и показал облачения и утварь. Я достал бумажку, он потемнел лицом.
– Деве Марии, – поправился я. Он показал глазами копилку.
Он не сказал, я не спросил: тут хранится кусочек Того Креста.
Маленькие высокие холмы крутой зеленью заслоняют небо. На них дома, в оградах – деревянные кресты метра в три-четыре. Говорят, такие кресты под дождями выдерживают лет пятьдесят – шестьдесят. Капли́цы Крестного Пути с большими, в рост человека костёльными изваяниями. Алтарист рассказывал:
– Там, где Христос под крестной ношей, крестьяне решили, что от зубов помогает. За год сгрызают весь крест. На Пасху меняем.
У выхода в поле на столбе в прозрачном пушкинском фонаре – дивный Рупинтое́лис, Христос Скорбящий. На поле бабы в цветастых платьях наступают на яркий оранжевый хлеб. И везде – у домов, под холмами, вдоль улиц, на самом шоссе – низенькие капли́чки с битыми стеклами, и в них – смуткя́лисы, не допущенная в костелы божественная деревянная готика девятнадцатого века. Чем старее, тем лучше, легкие, растрескавшиеся, редкостной выразительности.
Везде на нас откровенно глазеют.
За ужином папа без конца ставит на стол “Да́рбо по ве́на”, “Трижды девять”, кипрский мускат. Он обегает гостей и глядит в рюмки:
– По обычаю петербургскому.
– По обычаю святорусскому… – И вообще разговор шел на русском.
Сын Витас пил и мрачнел, может быть, из-за нас. Одного брата его убили лесные, другого – стребу́касы [57].
Застрявший начальник милиции наваливался на меня (говорят, если литовец сволочь, то сволочь):
– Зачем Хрущев китайцам атомную бомбу не дает? Зачем с китайцами поругался. Если бы не Сталин, где бы мы теперь были?
В девять, по бою часов, папа – как тот жемайтис из анекдота – поднялся:
– Кушайте, гости дорогие, пейте – не забывайте, а мне в стадо пора. Коровок доить.
В окно я видел, как он, шатаясь, уехал на стареньком велосипеде.
Литовцы запели.
В одиннадцать шофер объявил, что пора. Машина начальника оказалась грузовиком. В кузове уже стояло десятка три молодых цветастых. Начальник и Витас под руки подвели шофера к кабине. Витас потянулся к дверце, и шофер рухнул. Его с трудом упихнули за баранку.
– Здесь шофер всегда пьяный, никто еще не разбился, – крикнула из кузова Люся.
Грузовик рванулся во мрак. За ним долго тянулось:
Мы оставались к утренней мессе.
– Гости дорогие, я с вами уже прощаюсь, – вступил папа. – Завтра ни свет ни заря в Плунге картошку везу – председатель машину дал.
Ватикан,
Папе Иоанну Павлу Второму
Ваше Святейшество,
именно Вам, может быть, пригодится мое свидетельство.
Летом 1963 года в Жемайтийской Кальварии я видел необыкновенного священнослужителя.
Отец По́вилас Пуки́с долгое время был настоятелем здешнего знаменитого храма. После войны он десять лет отбыл на Воркуте – донесли, что отпевал лесных. По его словам, туже всего пришлось в Бурятии, где не было ни соотечественников, ни Писания.
В Кальварии он слишком многих крестил и венчал. Люди собрали ему на собственный домик и перевезли из дома для престарелых в Бурятии. Он прямо сказал, что приехал домой умирать и уже положил на кладбище плиту. Теперь он был алтаристом на вольных хлебах и в случае надобности служил за настоятеля.
И в Кальварии, и в Паланге, где он был во время войны, его считали святым. По тому потрясению, которое я испытал от самого его присутствия, я тоже уверен, что он – святой.