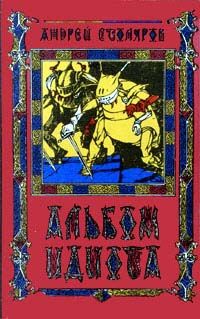Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
Мы с Чепайтисом [56] заглянули к Венцлове. Несомненно, он был душевно рад:
– Заходитя, заходитя! Раздявайтесь. Только хорошенько запомните ваши плащи, а то у мяня один раз мой унясли. – Он перевесил свой плащ на самый дальний крючок.
– Что ты говоришь, Тошенька! – ужаснулась шляхетная Лизочка.
– Вы мяня извянитя. Заходитя – прошу! У мяня никого нет. Хорошо, что этот дом маленький, а вот у Грицюса большой, так он ня знает, что с родственниками делать. А родственников и у мяня много.
Чепайтис сказал, что собирается присмотреть недорогой домик в деревне.
– А вы купитя у мяня. Десять тысяч. Новыми. Я-то, конечно, яго дяшевле купил, но рямонт, рямонт. Тут, в Жемайтии, гвоздь забить в пять раз дороже, чем в Вильнюсе. А в Клайпяде до войны все ничяго ня стоило. Только там летовцы немцев боялись. Мы всягда чувствовали на сябе косые взгляды. Мама вязет Томика в колясочке, немцы видят, что это летовский рябенок, подходят и плюют.
– Что ты говоришь, Тошенька!
– Вы мяня извянитя, мне в уборную надо. Три года ня могу найти чяловека вычистить. Запах такой, что Томик тяперь ходит только в лес. – Венцлова удалился.
– Папа знает, что Томик гораздо талантливее его, – спланировала Лизочка.
– В каком смысле? – нажал я.
– Томик книжку по семиотике написал, – попыталась вывернуться Лизочка.
– А в поэзии? – не отставал я.
– И в поэзии, – капитулировала Лизочка. – Бо́рута, покойник, говорил, что в Литве ни одного поэта, кроме Томика, нет. Когда Томик первый раз показал папе стихи, папа сразу сказал: – Ты поэт. Но почему ты пишешь такие книжные, герметические стихи? Поезди по стране, посмотри жизнь. – А Томик говорит: – Да я, папа, только и делаю, что езжу…
1977–79
родовспомогатель
ВПаланге на мужском пляже голый, круглый, как шар, лоснящийся человек заговорил о погоде – естественно, по-литовски: русские на мужской пляж ходят редко.
Я понял, собрал все известные мне слова и выдал приличный ответ.
Он, конечно, сообразил, кто я, и переехал на русский.
Речь пошла о Литве. Сразу сообщил мне, что в республике на сто родов – восемьдесят четыре аборта.
– В Ленинграде был – общежитие плохо, есть плохо, десять кило потерял. В войну у нас лучше было есть. Я спрашивал, а они молчат, я сам стал считать – у них на сто родов четыреста пятьдесят абортов. До революции на тысячу столько рождалось и столько умирало, теперь – столько и столько… Что, медицина плохая? Нет, медицина хорошая. Мы самая большая страна, нам надо иметь миллиард человек. В Литве земля, как в Полыце, а плотность в два раза меныце, как в Полыце. И там с голоду никто не умер. Значит, может быть щесть миллионов литовцев. Если бы Хрущев дал крестьянам землю, он от еды бы умер!
У меня в Али́тусе на сто родов сорок семь абортов, а если бы врачи считали, как я, было бы много меныце. Я в райсовете сказал, что восемьдесят процентов врачей надо в тюрьму.
– Вы строже, чем папа Павел.
– Да нет, он не запрещает, а – воздержание. Воздержание можно по-разному. Вся Литва живет на ко́итус интерру́птус. А пероральные таблетки – министр их привез – нарушают цикл. А тут только невроз, легкий, и только у женщин. От аборта – бесплодие. Ну, бесплодие лечить просто. В Али́тусе бойня была, тканевая терапия, подсадки. Одна бесплодная от аборта пять детей родила, потом еще одиннадцать абортов. Сейчас у нее климаксас. Мужчин я тоже лечил. Эстрон в мышцу, кусочек тестикула от быка в живот – и сам, как бык!
Он пользовался русским и литовским и добавлял латыни, которая спасала от неприятной двусмысленности. Он говорил увлеченно и деловито, и почему-то приходило на ум, что он не женат, бездетен и живет со старушкой-домоправительницей. А он продолжал:
– Один раз приехала женщина. Акушерка сказала, что у нее все не так. Я надел перчатку – она девять лет с мужем живет, а гимен цел! Положил на стол, снял. Сразу беременность. В Каунасе одной врачи говорили – пора, а она знает – рано. Ушла под расписку, сказала, в Вильнюс, а сама ко мне. Анализ крови – белок. Я посмотрел – а у нее тройня. Они ее съедают. Сделал кесарево – все живы. И приехал в отпуск.
1967
министры
1. Толю́шис
Голый, без плавок, я вылез из моря и подошел к знакомому старику-антиквару: нет ли чего для меня.
– Победители скупают национальное достояние побежденных? – улыбнулся его сосед, тоже седой, тоже в костюме при галстуке.
– Вот именно, – постарался я в тон.
– Вы, русские, молодцы – когда сто на одного, всегда побеждаете.
– Это точно. – Ирония и улыбка мне ужасно понравились. – Не цивилизовали нас. Наполеон приходил с несерьезными намерениями. Поляки весь Петербург заполонили, могли Россию без боя взять, поучить, а вместо того устроили в тридцатом году восстание.
– Поляки – славяне. Славянам ничего не удается… Простите, я не хотел вас обидеть. – Передо мной, голым, он встал, величественный, как лидер Государственной думы, представился: – Толюшис, – и протянул мне – два пальца. Это продолжалось долю секунды. – Простите, ради бога, у меня пальцы не разгибаются. Следователь сломал. – И меня же утешил: – Это прошлое. В будущем так долго продолжаться не может, потому что русский народ – великий народ! Я горжусь тем, что я – воспитанник Санкт-Петербургского университета.
Вечером взбудораженный Юозас, о́кая, забивал в меня гвозди:
– Это же Толюшис! Я тябе тысячу раз говорил, Прядседатель вярховного суда, который в двадцать щястом году расстрялял коммунистов!
Дануте рассказывала, что еще до войны отец отечества, женатый Толюшис, влюбился, а развода в Литве не существовало. Тогда все осталось в тайне, как осталось в тайне потом, когда Толюшиса пять раз сажали. Выйдя в последний раз, после смерти Сталина, Толюшис расконспирировался и женился. Он был уже стар, не работал, не получал пенсии, жил на посылки из США. В газетах время от времени о нем вспоминали: Тунеядец с Лайсвес-аллеи.
Дальнозоркий, он первым видел меня на улице и улыбаясь ждал. Мы брались за мировые проблемы на Ви́тауто, на базаре, в парке, на берегу.
– Это очень хороший вопрос: откуда берутся национальные кадры. Во-первых, было много литовцев с высшим образованием – сыновья крестьян, которым после шестьдесят третьего года отдали землю польских помещиков. Просто тогда образованным литовцам не разрешали работать в Литве. Во-вторых, и это главное, в первую мировую в эвакуации были литовские землячества, литовские клубы, две литовские гимназии. Весь государственный аппарат произошел таким образом из России.
Толюшис вел себя как хозяин земли Литовской:
– В Швянтойи на раскопках нашли что-то интересное. Во вторник поеду посмотрю.
– Я рад, что Косыгин приехал в Палангу. Пусть посмотрит, что Литва до сих пор живет богаче России. Кроме того, я благодарен Косыгину, что уже много лет могу спать спокойно.
Я подарил Толюшису свои переводы из Фроста. Он посмотрел на портрет старика и смущенно:
– На старости лет я сам стал писать стихи…
2. Урбши́с
Толюшис – литовец российский, Урбшис – западный. Представил меня Юозас: лучшая рекомендация.
– Я знал всех: Гитлера, Муссолини, Даладье, Чемберлена. Должен сказать, по сравнению с ними Сталин производил хорошее впечатление. Те неврастеники, а Сталин спокойный, уверенный, хлебосольный хозяин за столом. Молотов тоже производил впечатление типичного русского интеллигента – пока не начинал кричать и топать ногами. Он мне ткнул акт о вводе советских войск в Литву – я говорю:
– Я не могу подписать этого без консультации с моим правительством. Решается судьба моего народа.
– Вы привыкли торговать своим народом!