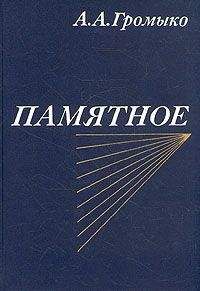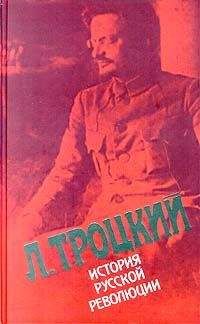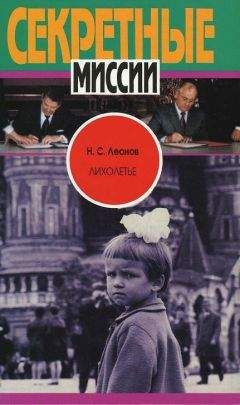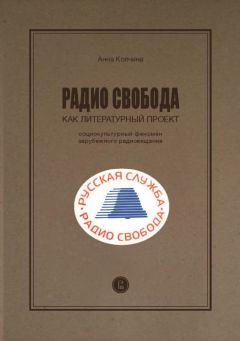Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Заветная «брама»
Знакомый лязг двери — и в нос ударит свойственный только нашей браме набор запахов. Избежать столкновения с ним не дано ни одному входящему, «если только есть у него нос и в носу запах обоняния», как излагал В.Жаботинский. Это из самого низа, где жила дворничиха пани Зелинська, каким-то чудом задержавшаяся здесь полька, тянулся кверху кислый дух отсыревшего черного хлеба, могильная затхлость погребов, разделенных истлевшими занозистыми перегородками. В погребах хранились кадушки с соленьями, картошка и уголь — спасительные зимние запасы. Разбухшие не столько от рассола, сколько от его духа, кадушки зимой покрывались корочкой льда. Обоняние не справлялось с нагрузкой — ароматы моченых яблок, соленых помидоров и огурцов, квашеной капусты, маринованных листьев салата вселяли чувство незыблемости бытия.
Детство — это ароматный пудинг, взбитый из солнца, зелени, котлет, снега, мясистых пионов и винтиков сирени, рассыпанных на подоконнике. Все остальное — это затянувшееся пищеварение.
ОСОБЕННОСТИ ФАМИЛЬНОЙ ГЕРАЛЬДИКИ ИЛИ БАЛЛАДА О КУРИНОМ ЖИРЕ
Издавна считается, что счастливое детство — это когда ребенка окружает любовь, забота, преданность, теплая одежда, здоровая пища, высокие моральные устои, положительный родительский пример, духовное руководство, друзья и уважение к старшим. С точки зрения этих домашних ценностей я рос счастливым ребенком. Правда, в детстве легко быть счастливым еще и потому, что ты не знал ничего лучшего.
Еще не подозревая о том, что обладание отдельной комнатой (каковой у меня сроду не было) может заменить целый мир и развить самодостаточность и способность наслаждаться одиночеством, я неистово трудился на балконе над сооружением «холобуды» — сказочного шатра. В нем я проводил по многу часов с книжкой или с шахматами. Я по сей день не решил — был ли это созидательный порыв или клапан для пещерного инстинкта. В дело пускались плотные шерстяные одеяла (дневной свет — враг фантазии), простыни, картонные коробки, подушки в наволочках из атласного китайского шелка, бельевые прищепки. Кротячья возня длилась до задраивания последней бреши или до полного изнеможения. Работа прерывалась, лишь когда из внешнего мира просовывалась морщинистая рука бабушки с гоголь-моголем или рыбьим жиром. Палатка оборудовалась системами жизнеобеспечения — для этого идеально подходили электрические фонарики, китайские термосы с компотом, мухобойка, театральный веер из сандаловых пластинок с шелковыми перепонками, цветные карандаши, шахматы, книги, книги, книги. Холобуду надо было обжить. Это означало — распалить свое воображение до такой степени, когда бледно-зеленые ворсистые складочки шерстяных стен превратятся в лесистые берега, а в ковровых узорах начнут ясно проступать очертания рогатых чудовищ. Описание пещерного рая было бы неполным без его главного атрибута — того, что делало рай раем — чувство блаженного одиночества и независимости, нарушить которое дозволялось лишь колдовским запахам, бившим из Стрыйского парка, да еще клацкающим, лязгающим, звякающим, взвизгивающим, скрежещущим трамвайным вздохам, подгоняемым искрящейся контактной кочергой. Впрочем, когда Робинзон оказывался в настроении, он мог обогатить эту обязательную гамму тревожной тарзаньей трелью (не зря же меня в виде поощрения за прибавленный килограмм водили на каждую новую серию «Тарзана»). Старшие мне не препятствовали. Оно и понятно. С точки зрения домашних ценностей, инициатива была безобидной — не таила угрозы молодому организму, оставляла возможность непосредственного надзора, обеспечивала недосягаемость для дурного влияния улицы, главным образом, залетных микробов, бешеных собак, клещей, лишайных кошек, цыган, бойко торгующих крадеными детьми, матюкающихся хулиганов из неблагополучных семей, распоясавшихся «антисемитов-бандеровцев» и пагубных соблазнов вроде незрелых фруктов. Выкурить меня из холобуды можно было запахом свежевзрезанного астраханского арбуза или селедки, плавающей в подсолнечном масле.
Со времен сотворения мира гуляет анекдот:
— Как встречает Ева Адама, который с опозданием вернулся с работы?
— Пересчитывает его ребра.
Тетя Маня грозно поджидает меня в дверях, чтобы провести рукой по слипшимся волосам:
— Вохкий, как вареная курица. Ты опять бегал?!
Подвижные игры и активный спорт строго возбраняются ввиду опасности переохлаждения. В ушах до сих пор звучат заклинания о том, что я сверхвосприимчив ко всем известным и неизвестным болезням. Коньки и велосипед — величайшие из зол. А обладателем собственного велосипеда я стал в сорок лет, да и тот вскоре украли. В фаворе были книги, настольные игры, диафильмы, ибо не несли прямой угрозы потери веса, расстройства желудка, туберкулеза или двухстороннего воспаления легких.
Тетя Маня высоко несла свою святую миссию — бесповоротно излечить меня от недугов, которые я по неосторожности подхватил, еще когда был яйцеклеткой. Слишком быстро делился, вспотел и пошло-поехало. Ее забота о моем здоровье простерлась через всю мою грешную жизнь. Мне было 19 лет, когда однажды она застала своего питомца — страшно выговорить — наедине с подружкой. Быстро оценив обстановку, тетя Маня сделала строгое лицо:
— Ленечка, а ты с врачами посоветовался? Ведь ты такой слабенький…
От тети Мани, нашего неутомимого стража здоровья, я знал, что меня на каждом углу подстерегает невидимая опасность — микробы, бактерии, глисты. Я с отвращением и брезгливостью выслушивал популярные лекции об аскаридах, солитерах и прочих палочках Коха. Последние наводили ужас даже во сне. Тетя Маня была непоколебимо убеждена в моей предрасположенности к туберкулезу. Это по ее настоянию врачи поставили меня на учет в тубдиспансер (от самого названия заведения веяло безысходностью). В это мрачное здание на Пушкинской улице меня водили, как к причастию. Каждый осмотр у фтизиатра начинался с дутья в резиновый шланг, впаянный в «легочную машину» — чан, в котором плавал полый цилиндр. Как былинный Соловей-разбойник, я что есть мочи дул в трубку, цилиндр, качнувшись, слегка приподнимался, сообщая любопытным объем моих легких. В старину такие штуки использовались как силомеры в луна-парках. Я знал по именам всех фтизиатров города, и все знали меня. В шесть лет я уже различал между реакциями Манту и Пирке, не путал бронхит с бронхоаденитом и не нуждался в помощи старших при общении с врачами — анамнез, составленный с моих слов, давал четкую клиническую картину.
В преддверии школы тетя Маня требовала от врачей невозможного. Стоило незадачливому педиатру объявить меня здоровым — как она отказывала ему в доверии и немедленно бросалась на поиски нового «светилы». Врачиха из детской консультации неосторожно порекомендовала посадить меня на диету и приобщить к спорту. Это был черный день в ее жизни.
— Эти молодые врачи, — возмущалась тетя, — не столько лечат, сколько калечат. С таким трудом мне удалось поставить ребенка на ноги! Что они понимают!
Правда, на всякий случай, она начинала снимать с куриного бульона сантиметровый панцирь жира. У бабушки от этого кощунства наворачивались на глаза слезы. Но не проходило и месяца, как тетушка уже выкручивала руки очередной жертве в белом халате:
— Он ничего не ест и ужасно бледен — это же явный признак туберкулеза.
Кто-то, наконец, дал дельный совет — подкрепить мальчика пивными дрожжами — «верное средство» для профилактики легочных заболеваний. Пиво в доме не водилось, но идея пришлась тетушке по вкусу. Мне тоже. Пойло доставлялось в трехлитровых бидонах прямехонько с пивзавода. Через полгода мой живой вес удвоился. Тетя Маня торжествовала. А я вместе с молодым жирком обрел и свою первую дворовую кличку — обидней не придумаешь — «толстожопый шу́шу-му́шу». Что такое «шушу-мушу» не знал никто, и от этого было обидно вдвойне.