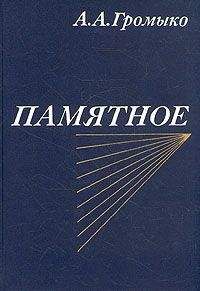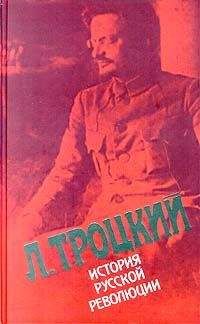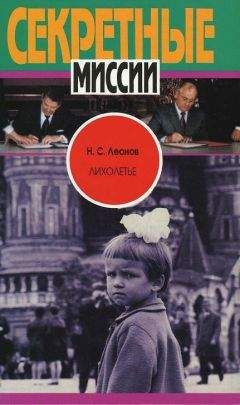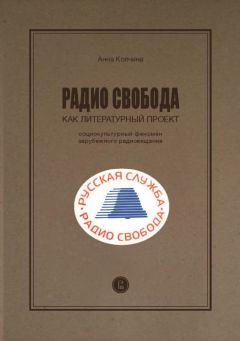Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
— Это они от зависти. — Утешала тетушка. Хороша зависть.
Накопление в ребенке жира считалось столь же неоспоримым благом, как и откладывание на черный день денег.
— Нивроку, поправился. — Удовлетворенно констатировала тетя Маня, удостоверившись, что к концу лета я прибавил в весе, и мечтательно добавляла:
— Хорошо бы еще 5–6 кил, но он — хороший мальчик, он будет всегда хорошо кушать. Правда, Ленечка?
А бабушка развивала доктрину, по которой в жестокой жизненной борьбе побеждает жирнейший. Насильственную кормежку она сопровождала рассказом о том, как нанимали на работу ее дедушку-кузнеца. Хозяин первым делом сажал его за стол и накладывал еду. Если угощение съедалось быстро, работа ему была обеспечена — кто быстро ест, быстро и работает. Бабушка заговаривала мои молочные зубы, чтобы они поглубже вгрызались в ненавистную парную тефтелину, и следила, чтобы во время еды я не болтал, не отвлекался на посторонние звуки, не задерживал во рту бесценные витамины, не разговаривал с полным ртом. На эти случаи была припасена народная мудрость: «Когда я ем, я глух и нем, когда я кушаю, я никого не слушаю».
“Love and bread make the cheeks red” («От любви и хлеба кусочка зарумянится детская щечка») — гласит английская поговорка. Ритуальная кормежка еврейского ребенка сопровождается бурным изъявлением чувств.
— Ну, еще ложечку, мой ангел, моя жизнь. — Воркует умиленная мама, вводя в кудрявого бэби лошадиную дозу белков, жиров и углеводов.
— А теперь за бабушку, которая любит тебя больше всех на свете.
Но я рано узнал, как капризны бывают чувства:
— Если ты немедленно не съешь творог (гоголь-моголь, суп, куриную шейку), ремень пойдет гулять по твоей заднице.
Ремень не был понятием абстрактным. Вполне реальный шириной с взрослую ладонь фронтовой ремень, с которым дядя Яша расстался после демобилизации в 1946 году, как грозный фетиш, висел в столовой в дверном проеме при входе на кухню. Короткого взгляда в сторону кухонной двери было достаточно, чтобы я сдал свои позиции и начал шевелить челюстью, перемалывая остывшую и опостылевшую куриную грудинку. Но случалось, что его пускали в дело. Это было не больно, но очень страшно.
В столовой меня оставляли наедине с тарелкой. Безносый ангел с деревянной плотью безучастно смотрел на мои страдания. А я был рад любому событию — залетевшему майскому жуку или каблучному топоту над потолком («чтоб им уже черти по крышке гроба стучали») — лишь бы отвлечься от мучительной повинности. В такие минуты я по-черному завидовал диккенсовским карманным воришкам, которых злой Феджин в наказание за слабый улов оставлял без ужина.
Ни я, ни мои сверстники в то время не подозревали, что для нашего воспитания родители должны пользоваться специальной педагогической литературой. Они пользовались практически всем, что в нужный момент попадалось под руку — веником, бельевой веревкой, журналом «Огонек» или «Пионерской правдой», свернутой в трубочку для удобства. Но самым универсальным средством воздействия была отцовская ладонь, которую Природа сконструировала так, чтобы она идеально вписывалась в конфигурацию детской попки. Тетя Маня с благоговением относилась к мудрости Природы. Стоило бабушке крутануть мне ухо, как дочь напускалась на нее, втолковывая, что для воспитания у ребенка есть другое место. Споры о том, каким способом, по какому месту и с какой интенсивностью целесообразней стимулировать мой аппетит, велись преимущественно на идише, по этой причине я не мог принять в них участия, но зато обрел первые познания в иностранном языке, которые впоследствии очень пригодились. Придет время — и в эти бесплодные споры о моем воспитании вмешается милиция. С языками, правда, у нее обстояло неважно, но мои познания в разговорном русском заметно обогатились.
Надо отдать дань справедливости — наказывали меня редко. Родиться еврейским ребенком — уже чрезмерное наказание. Моим друзьям везло меньше. Если отец Алика или Шурика уклонялся от этой функции, ребенок мог заподозрить его в безразличии или в том, что он вовсе и не отец ему.
Если куриный жир почитался за абсолютное благо, то сладости, напротив, строго рационировались. В широченном выдвижном ящике резного буфета, унаследованного от загадочных «прежних хозяев» вместе с квартирой, всегда хранилась гранитная глыба нерасфасованного шоколада — неизвестный несун с кондитерской фабрики снабжал уворованным лакомством весь наш дом. К чаю от самородка откалывался кусок. Глыба сопротивлялась и скрипела под ножом. Обильная коричневая крошка, разлетавшаяся в разные стороны во время этой операции, бережно собиралась для украшения «наполеона», который тетя Маня с большим вдохновением пекла чуть не каждый месяц. Шоколад был вкуснее того, что продавали в магазине, но увлекаться лакомством было нельзя — шоколад вызывает «диатез», то есть, как поясняла бабушка, «нарушение обмена вещей».
Строжайше запрещено было прикасаться к свежим огурцам, ревеню, щавелю, крыжовнику как верным проводникам дизентерии.
Тетя Маня широко практиковала на мне все знания, приобретенные на жилкооповских курсах — помимо курсов кройки и шитья, она посещала занятия по противовоздушной и противохимической обороне, первой медицинской помощи и кучу других. Без дела она не сидела. Самыми действенными средствами считались камфорное масло, ихтиолка, белый стрептоцид, скипидар, алоэ, рыбий жир и, разумеется, «еврейский пенициллин» — куриный бульон с такой концентрацией жира, что через него не мог вырваться на поверхность пар. Наш фамильный герб я представлял в виде вареной курицы, птицы священной и в то же время жертвенной, с ложкой в одной лапе и со шприцем в другой. Но даже если бы мне и удалось изобразить это на бумаге, наша фамильная геральдика была бы далека от совершенства. Вот если бы можно было выгравировать на моем перстне еще и маленький спичечный коробок с выцветшей замусоленной этикеткой, скромное вместилище нескончаемых тайн человеческого бытия… Легкое движение пальца — и наружу вырвется облако бесценных знаний об опасных воспалительных процессах в недоступных недрах наших пищевых трактов. Натолкнувшись в очередной раз на слишком мягкий приговор лечащего врача («Чтоб у нее черти лечились, пусть она мне голову не морочит — даже слепой увидит, что у ребенка глисты»), т. Маня дожимала его настоятельными требованиями повторных анализов по полной программе. «Анализ КА-ЛА» не был медицинским термином, произносимым с понижением голоса, упаси Боже. Мощное, емкое фразеологическое сращение было наполнено дыханием и важным смыслом, как доклад офраченного мажордома с золоченым жезлом во время съезда гостей аристократического бала — ГРАФ И ГРАФИНЯ ДЕ БОВУАР!
Белый фарфоровый горшок никогда не чувствовал себя отверженным. Напротив, в отличие от старшего брата, ворчливого унитаза, помнившего лучшие довоенные времена (ибо унаследован тоже от прежних хозяев), он был привечаем не только в тесной уборной, но и в спальне, и даже в столовой, если того требовали обстоятельства. Его появление на публике не считалось чем-то неприличным или необязательным. И он отплачивал лояльностью, беспорочной службой и не без оснований считал себя скорее всепонимающим другом, нежели гигиеническим приспособлением, скорее научным советником, нежели временным контейнером для вторичного продукта. Его душа была широко открыта, и, несмотря на то, что его собственные гигиенические стандарты были спорны, он не выражал и тени сомнения в том, что его хозяева пахнут розами и лилиями, а после их смерти он, подобно Святому Граалю, будет взят вместе с ними на небо.
Но вернемся к нашей Синей птице, несущей золотые яйца. Культ курицы нашел свое отражение даже в моем домашнем прозвище — «Фертл оф» — «четвертушка цыпленка» в переводе с идиша — намек на мою тщедушность и физическую слабость.
С курицей был связан и обязательный застольный ритуал переламывания куриной ключицы. Тот, кому при дележке курицы попадалась ключица, — счастливчик. Вилкообразная косточка обсасывалась, и один конец предлагался соседу по столу. Загадав желание, обладатель переламывал косточку. Поверие тоже использовалось в моей кормежке в качестве дополнительного стимула. Не мытьем — так катаньем.