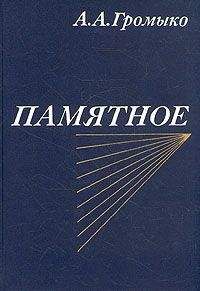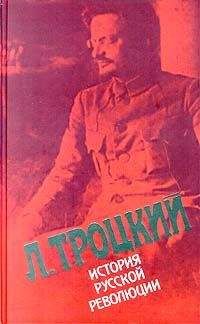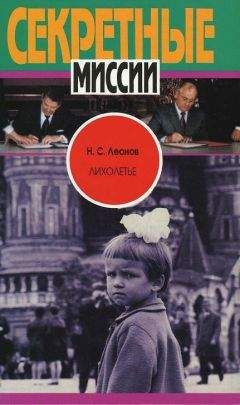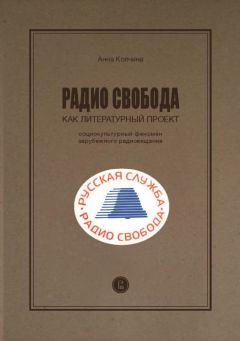Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Обостренное чувство справедливости и товарищества снискали ему завидный авторитет и доверие. На проходивших в нашем доме третейских судах Якову отводилась роль арбитра. Его решения принимались без обид и возражений. Ему не приходилось набиваться в партнеры — он генерировал идеи, подкрепленные фундаментальными расчетами, и, если было необходимо, сам находил людей, в которых нуждался. Скромность и полное равнодушие к развлечениям и красивой жизни делали его человеком-невидимкой. Все, что он зарабатывал, шло на помощь бесчисленным харьковским, московским и киевским родственникам. Статьи расходов нашего семейного бюджета были достаточно скромными. Источник финансового успеха он видел не в хищениях, а в разумном использовании технологических возможностей — непаханое поле. Яков Моисеевич собственноручно усовершенствовал технологию, добиваясь экономии сырья до 50 %. Этого резерва хватало на перевыполнение плана плюс производство левой продукции, которая кормила весь цех. По стране то и дело прокатывались волны репрессий против теневиков. Многим они стоили жизни. Только в 1959-м опасность подобралась к Крайчику. Сотрудничать со следствием Яков Моисеевич отказался, чем навлек на себя особую немилость и срок, длинный, как жизнь, — 12 лет лагерей строго режима.
МУЗЕЙ ДЕТСТВА
В послевоенные годы Львов был не просто крупным приграничным городом. Это — подлинный водораздел между Востоком и Западом, которые переплелись здесь в архитектуре, в языке, в привычках людей. Колонизация и осовечивание здесь протекали медленно. Прекрасная сохранность архитектурных наслоений как бы давала понять, что город знать ничего не хочет о незваных гостях и невозмутимо хранит множество напоминаний о прежних владельцах и обитателях этих домов. А мягкость гористых пейзажных форм не уставала подчеркивать мечтательное добродушие этого уголка мира, особенно в предвечерние часы, когда лиловый сумрак, насквозь пропитанный тончайшими запахами, начисто затушевывал и хвастливые кумачовые транспаранты, обезличивавшие средневековую готику костелов, и беспардонно вытоптанные клумбы Стрыйского парка и Лычаковского кладбища. Из темноты один за другим, как солдаты на перекличке, выступали газовые фонари, высвечивающие лимонной желтизной тротуарные плиты. Они доживали свои последние ночи и потому старались изо всех сил, кланялись стеклянными головами редким прохожим, страстно целовали протянутый фонарщиком фитиль, послушно вспыхивали «бессмысленным и тусклым светом», чтобы явить миру дорожное снежное месиво, умащенное конским навозом. Но на перекрестках и центральных улицах уже раскачивались на ветру электрические светильники с белыми шляпами. Свету они давали чуть больше, но о них уже никто не сложит блоковско-брюсовских строчек или мятлевских городских песен:
Они на то поставлены,
Чтоб видел их народ,
Чтоб величались, славились,
Но только без хлопот.
Им, дескать, не приказано
Вокруг себя смотреть.
Одна у них обязанность —
Стоять тут и гореть,
Да и гореть, покудова
Кто не задует их…
Так что же им тревожиться
О горестях людских?
Весной нестареющие палисадники приветствовали прохожих мохнатыми лапами сирени и тесней прижимались к своим особнякам, как бы ища защиты от буйствующих с утра до вечера подростков.
Город черного ангела, моя первая любовь. Он мне дорог таким, каким был при знакомстве и расставании — увлажненная ночной свежестью брусчатка, веселые тарновские трамвайчики, сделанные специально для того, чтобы в них можно было, разогнавшись, вскакивать на ходу, вековой парк, красные колпаки крыш. Местная босячня гоняет по тротуарам ржавые обручи, ловко придерживая их медной кочергой. Обручи издают препротивный скрежет, если вовремя не посторонишься — быть беде.
Галичане, сдержанные, молчаливые, растерянные, сохраняли не только свой певучий диалект, но даже стиль одежды — их можно было узнать по френчам и пиджакам довоенного покроя, курткам с каскетками и хлястиками, черным плюшевым полупальто, бархатным воротникам.
Улицы уступали новым хозяевам только названия. Угловые таблички менялись чуть ли не каждый день. Но жители предпочитали пользоваться довоенными польскими названиями. Казалось, что никого всерьез не трогает факт принадлежности к очередной империи. Задержавшиеся по какой-то причине поляки мало-помалу тянулись в сторону Чопа. Они уносили с собой часть души города. Не сдавались только фасады домов — они хранили и продолжают хранить свои вековые тайны и колорит. Колонизаторы никогда полностью не освободятся от комплекса пришлости. Быть может, поэтому к местным русские относились с подчеркнутым высокомерием, называли их не иначе, как «вуйки» или «бандеровцы». Страх перед местными подогревался вылазками ОУНовских боевиков. В 1952 году после суда над Стахуром, убийцей Ярослава Галана, по городу поползли упорные слухи о предстоящем публичном повешении бандеровца то ли на стадионе, то ли на площади за Оперным театром. Я упрашивал взрослых взять меня на это «шоу». Подобные зрелища не были в диковинку — после войны публичные казни применялись в отношении осужденных эсэсовцев и своих наиболее отличившихся коллаборационистов. Об одном из таких представлений рассказывал позднее мой друг Георгий Бен. Двенадцатилетним мальчиком в январе 1946 года он присутствовал на публичной казни восьмерых эсэсовцев у кинотеатра «Гигант» в Ленинграде. Львовяне стали внимательней читать местные газеты, чтобы не пропустить сообщение о дате. Сообщение действительно появилось, но в нем, к моему разочарованию, говорилось, что приговор приведен в исполнение в присутствии «должностных лиц».
Презрительные инвективы этнического характера не имели хождения у нас в доме. Армяшки, фоньки, хохлы, чурки, кацапы, черножопые, косоглазые — весь этот джентльменский набор доносился до моих ушей только с улицы. Единственное разделительное прозвище, которое я усвоил в семье, — «гоим» никогда не звучало пренебрежительно. (Для этого было другое исключительное слово весьма узкого значения — шикса — и обозначало оно женщину нестабильного поведения и, следовательно, уже по определению, никак не могло относиться к еврейской женщине). Гоим же значило «неевреи» и ничего больше. Оно могло звучать и в нейтральном контексте, и в ругательном и в уважительном.
Но я (наверное, по малолетству), не чувствовал себя здесь пришлым. Я был «нацменьшинством» здесь, был бы им и в любом другом месте. Город детства — это город надежды. Львов — музей моего детства.
На пути к этнической самоидентификации. 1953 г.
СТРЫЙСКИЙ ПАРК
Стрыйский парк был естественным продолжением моего мира уже хотя бы потому, что начинался сразу за оградой нашего тенистого палисадника. Всего пара сот метров отделяли меня от бледно-розовых арочных ворот рая. К ним вела волшебная аллея, обсаженная респектабельными особняками. С приходом новых властей она тоже обрела новое название — улица Конева, в честь командующего Закарпатским военным округом, здравствующего маршала (редкая честь) и фактического хозяина города. По этой аллее двигались не только разодетые мамаши с зонтиками и важные няни, толкавшие перед собой плетеные детские коляски. По ней двигались даже дурманящие запахи, которым было тесно в зеленом заповеднике. В глубине души я недолюбливал эту улицу из-за тротуаров, выложенных широченными квадратными плитами, совершенно не приспособленными для того, чтобы перешагивать через их стыки.