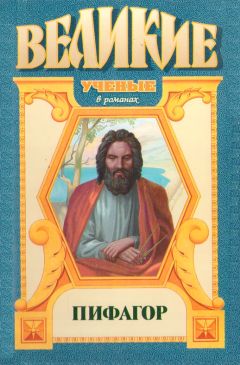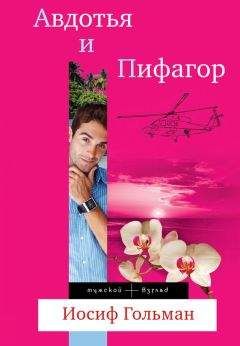Хескет Пирсон - Бернард Шоу
Город, замечу попутно, не был един в религии, и покойников хоронили на двух огромных кладбищах, каждое из которых служило преддверием ада или райскими вратами — это откуда посмотреть, — ибо кладбища были поделены между религиозными партиями, а те друг другу не спускали.
Оба кладбища лежали в миле или двух от города. Казалось бы, что особенного? Но именно то, что к месту вечного упокоения вели пустые проселки, и сообщало похоронам их редкое своеобразие. Сами понимаете, никакая тяжелая утрата не может заставить человека позабыть, что время — деньги. В начале пути мы тянулись по проспектам и улицам неспешным скорбным шагом, но стоило выехать на открытое место — и кучеров нельзя было узнать. На лошадей обрушивались понукающие возгласы и удары кнута. Рамы похоронных дрог крепились на несгибаемых рессорах, и толчки вынуждали нас то и дело цепляться за предохранительные ремни. Похороны шли полным ходом.
Да, по тем полям я сделал немало шумных переездов, приткнувшись к изножию какого-нибудь почившего дядюшки, в свое время тоже скакавшего на этой дистанции.
Ближе к кладбищу снова начинали попадаться дома. По этому случаю скорбь захлестывала нас с новой силой, и мы едва доползали до высоких железных ворот.
Гроб ставили на дурное подобие лафета, набрасывали покров, и злой как черт пони тащился к часовне. Пони наводил страх, того и гляди выдохнет из ноздрей пламя, хлопнет перепончатыми крыльями и пропадет вместе с гробом и прочими принадлежностями. Только гром грянет да серой потянет. Эта церемония на всю жизнь отучила меня воспринимать, как все нормальные люди, марш из «Героической» Бетховена. Меня всегда подкашивает та роковая часть, где гобой переводит марш в мажор и все произведение светлеет, как бы прибавляя шагу. Я безотчетно ищу сбоку ремень, а многоголосие оркестра заглушают голоса троих людей, напряженно превозмогающих тряску и бешеное раскачивание. Журчит речь двоюродного братца про то, как он встретил в охотничьем заповеднике красавицу жену вице-короля (врет, конечно…). Бубнит дядя, не уставая рассказывать отцу про старые швейцарские часы: отдал за них пятнадцать шиллингов, а ходят уже сорок лет! А отец гадает вслух, что успешнее свело покойного в могилу: нрав ли жены, пьянство или просто срок вышел.
Когда же внезапно, врасплох, музыка возвращается в минорный ключ, я вижу: начались дома. Здесь я прихожу в себя и соображаю, что последнюю страницу-другую партитуры слушал рассеянно и ничего не могу сказать об исполнении.
Я не оправдываю себя — ни теперешнего, ни каким я был в детстве: просто нужно, чтобы мои недостатки были верно учтены при разборе моих критических суждений. Что взять с ребенка? Ему все смешно, он не вникает…
Ведь это не я, а общество, с неуместной помпой сплавляя своих мертвецов, то и дело сбивается на фарс. Ничего удивительного, что мальчишкой я потешался над похоронами, а в старости они будят во мне отвращение…»
EX PROPRIO MOTU[5]
К домашнему воспитанию Шоу дисциплина была непричастна: «Детьми мы были предоставлены самим себе; любви в доме не было, злобы тоже, почтения от нас не требовали — словом, живи как умеешь».
Он не походил на других мальчишек — не любил игр. Крикет считал «смертельной тоской», уступавшей в этом только футболу. Но в любознательности сверстникам не уступал. Услыхав, например, что брошенная с высоты кошка всегда приземляется на лапы, сам, не колеблясь, удостоверился в этом, спихнув животное со второго этажа. Сердце у него было доброе, но остановиться в озорстве не умел. Как-то они с приятелем завладели неосторожно оставленной детской коляской, сильно разогнали ее и в конце улицы развернули под прямым углом — ребенок вылетел как пробка, а перепуганные сорванцы убежали. Что сделалось с ребенком, они не знали, да и узнать не старались.
Среди однокашников он слыл выдумщиком. В какой-то степени этому способствовала ранняя любовь к литературе. «Я не могу вспомнить, когда меня выучили читать и писать, — признавался он. — Сколько ни есть слов в английской литературе, от Шекспира до последнего издания Британской энциклопедии, я их все узнавал с первого же взгляда. Исключение составляли только статьи в разделе «Природа», там я иногда ни слова не понимал. Так что в словарь я никогда не лазил, может быть раз-другой — зачем-то понадобился третий или четвертый синоним». (Такая же поразительная способность совсем другого человека вызвала кстати странное заключение шекспироведов: пьесы-де Шекспира мог написать только человек с классическим образованием.) Но все встанет на свое место, если взять на себя труд обозреть круг чтения пяти-шести летнего Шоу.
«Детские» книги он не любил. «Швейцарского Робинзона»[6] считал скучной и глупой книжонкой. Любил «Робинзона Крузо», обожал «Путь паломника», читал его вслух отцу. Как он набросился на книгу с яркими рисунками фантастических сражений! Но очень скоро картинки наскучили — «захотелось чего-нибудь новенького».
В загородном доме двоюродной бабушки он обнаружил «Тысячу и одну ночь» и был настолько потрясен книгой, что едва просыпался и видел свет между ставнями — мигом выскакивал из постели, распахивал окно и читал, пока не придут будить. Бабушка не очень переживала, когда шустрый пони, на которого она подсадила перепуганного мальчугана, вооружив его шпорами, понес внука, но стоило проговориться о тайном сокровище, как она припрятала книжку: кости остались целы — теперь не хватало душу в грех вводить! В деревне очень старались, чтобы в крепком теле был богобоязненный дух. Часами дискутировали о сломанных ключицах, переломанных позвоночниках, свернутых шеях, и не блеснет в этих беседах ни единая мысль, ни малейшее дерзновение души».
Просчиталась бабка! Дерзновением души мальчик отличался немалым и, уж конечно, отыскал книгу, неопытной рукой сунутую в комод. Шоу держал ее потом у себя под матрацем — так-то оно спокойнее…
В то время как большинство ребят его возраста усердно одолевали азбуку, он уже не вылезал из подшивок «Круглого года». Здесь он прочитал «День в седле» Чарльза Ливера, и неумение героя ужиться с действительностью наполнило его «пронзительной горечью, которую не пробуждали еще романтические книжки». Он корпел и над «Большими ожиданиями» Диккенса, а по «Повести о двух городах» составил первое представление о Французской революции.
«В те же дни я приступил к «Крошке Доррит». Именно так: я брал ее приступом. Книги чрезвычайно поражали мое воображение, я верил каждому слову. «Пиквика», «Холодный дом» и все остальное я прочел лет в двенадцать-тринадцать, уже порядочным циником и скептиком».