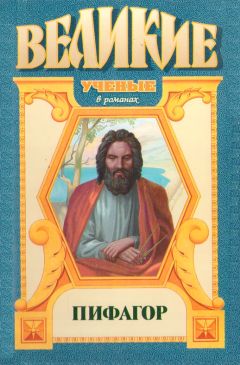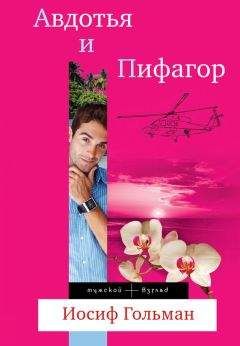Хескет Пирсон - Бернард Шоу
Музыкальным развитием Шоу всецело обязан серьезным занятиям матери и Ли, но и с отцовской стороны поступало подкрепление, хотя здесь музыкального образования не имели. Дядюшки, тетушки, кузины играли на всех мыслимых инструментах. «Отец нарушал семейный покой, неумеренно увлекшись тромбоном», но эта страсть, между прочим, отблагодарила его хорошим здоровьем: «Против игры на духовых инструментах можно выдвинуть только один аргумент — она немыслимо продлевает жизнь. Желаете уберечься от туберкулеза, алкоголизма, холеры — словом, хотите бессмертия — выучитесь хорошо играть на тромбоне и дудите себе на здоровье».
Нарушением семейного покоя Шоу-старший, очевидно, не ограничился. Его сын, став музыкальным критиком, поведает своим читателям: «Вооружившись тромбоном, мой отец имел обыкновение собирать вокруг себя компанию примерно человек в двадцать — все люди высокого духовного благородства — и прогуливаться летними вечерами вдоль реки, ка окраине городка, с патриотическим рвением менестрелей услаждая слух сограждан. Свою партию на тромбоне отец, в сущности, сочинял на ходу: с листа он играл неважно, зато отлично импровизировал… Случись сыну этого отца уже в ту пору обладать сегодняшним разумением и будь он вынужден высказаться по этому поводу, приговором было бы (можете искать здесь личные пристрастия): лучше такая музыка, чем никакой!»
Музыка стояла в доме на первом месте — всему остальному здесь не придавали значения, и понятно, что в оперу молодой Шоу попал в том возрасте, когда большинство мальчиков еще только отправляются на свой первый детский утренник. «Тогда я еще не знал, что такое опера, хотя насвистывал приличное число оперных партий. В материнском альбоме я разглядывал фотографии всех великих певцов; многие были в вечерних костюмах. В театре на раззолоченном балконе тоже восседали люди в вечерних костюмах, я решил, что это и есть певцы. Глядя на полную шатенку, я думал, что это Альбони, и нетерпеливо ждал, когда же она поднимется и запоет. Меня озадачивало, что я сижу спиной к певцам: надо бы наоборот. Когда поднялся занавес, мой восторг и изумление не знали границ».
Он заболел оперой. Не так волновали его книжные пираты и разбойники, как ведущие тенора и сопрано: он открыл здесь новый волшебный мир, мир сказки и приключений. Несколько лет спустя, когда Шоу уже обзавелся вокальной партитурой «Лоэнгрина» и оперы Доницетти сразу показались ему банальными, случайный взгляд за кулисы развеял все романтические иллюзии:
«Впервые я увидел знаменитого певца вне сцены в дни известной постановки «Лукреции Борджиа». Мне удалось пробраться за кулисы. Был я в ту пору еще совсем подростком. Тенор же был великолепный молодой человек со знойного юга, его прочили в восприемники Марио. (Тогда все хотели быть восприемниками Марио.) Дитя природы глубоко потрясло меня вставной арией «Deserto sulla terra». Возвращаясь со сцены мимо меня, он шумно откашлялся и самым естественным образом сплюнул в стайку артисток, рассевшихся за просцениумом почесать языки. Я был ошарашен: если человек не дозрел до понимания того, что неприлично отхаркиваться куда попало при людях, разве может он походить на Лоэнгрина, петь как Лоэнгрин, жить чувствами Лоэнгрина и поднять до «Лоэнгрина» закабаленные Доницетти подмостки?.. Словом, я раз и навсегда уяснил себе: от итальянских теноров напрасно ждать серьезного отношения к музыкальной драме».
Но раньше, еще до этого разочарования, он успел увлечься театром. В первое свое посещение смотрел два фарса, трехактную пьесу Тома Тейлора и рождественскую пантомиму — обычная по тем временам вечерняя программа, приучавшая зрителей высиживать с одинаковым благодушием на чем угодно. Дают ли оперу Вагнера, или обновители религии проводят собрание — это, как говорится, «детали».
Тогда еще не водилось обычая терпеливо пережидать толпу у входа — публика брала театр приступом: «В варварские дни моей юности яростная схватка у задних дверей партера входила в разряд удовольствий, доставляемых посещением театра. Я и доселе помню добытый в те дни урок: чтобы прорваться, нужно вклиниться в самую что ни есть свалку. Когда ребра готовы переломиться, вот-вот хрустнет грудная клетка, а плотная дама перед вами, темпераментно требующая от своего телохранителя доказательств того, что он мужчина и может вытащить ее отсюда, вынуждена покориться неминуемой смерти, — вот тогда возрастают ваши надежды заполучить место в первых рядах. Если же давка слабеет — дело ясное: вас относит в сторону, где ради сомнительных преимуществ — спокойно дышать, выпрямить спину и т. п. — отрекаются от шанса на хорошее место слабые и нерешительные».
Первым актером в ту пору был Барри Салливен. На Шоу производили неизгладимое впечатление его обаяние, манеры и сила. «На юного зрителя вроде меня его поединки в «Ричарде III» и «Макбете» действовали неотразимо. Какого «Макбета» я вспоминаю! У героя переломился меч — настоящий боевой меч, приберегаемый специально для этой сцены; осколок дюйма в два со свистом пронесся над головами зрителей, забивших партерный тыл (тогда еще в задних рядах не ставили кресел), и глубоко впился в барьер бельэтажа: сидевшие близ этой траектории натерпелись страху сверх оплаченной нормы. Барри Салливен был высоким, крепким человеком с хорошо поставленным, сильным голосом; по сцене он двигался с великолепной грацией и достоинством; обаяние его физической силы захватывало зрителей независимо от пьесы. Движения актера были молниеносно быстры — возьмите последнюю сцену «Гамлета», где Салливен вихрем проносится по сцене и в мгновение ока успевает четырежды пронзить короля». Салливен был гастролирующей звездой и в основном заботился о том, чтобы вовремя доставить себя из одного места в другое, не вдумываясь в то, что проделывала очередная труппа с остальными ролями.
Уже мальчиком Шоу неминуемо должен был развивать в себе критические способности. Некая провинциальная Офелия вызвала у него такой припадок смеха, что его «лишь чудом не выставили из театра». Умел он и разобраться, когда Салливен играет слабее своих возможностей.
Салливен был последним представителем знаменитой школы «сверхчеловеческой» игры. Увидев в Дублине лондонскую постановку пьесы Олбери «Две розы», Шоу поведал о приходе новой эпохи в театр. Пьеса была обязана своим успехом актеру, чей стиль явился для Шоу совершенной новостью. Актер был высок и худощав; он передвигался очень своеобразно, жесты были необычны, говорил в нос, внешностью обладал зловещей. И все же в нем определенно чувствовалось какое-то неуловимое благородство, он не походил на остальных, он был «современен». Шоу сразу угадал: «…в этом человеке таится новая драма, хотя я и не мог вообразить, что создать ее будет суждено мне». Но «этот человек» не свяжет своей судьбы с новой драмой — в том и причина позднейших его неладов с Шоу. Звали «этого человека» Генри Ирвинг.