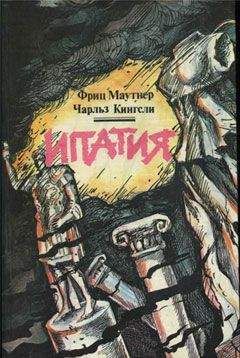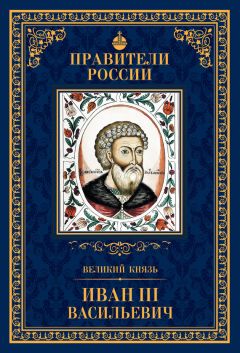Иван Майский - Перед бурей
— Хорошо, я исполню твою волю.
И вот я стал «великой грозою». Толпы народа тесни
лись вокруг меня, знамена развевались в воздухе, мечи
сверкали, города горели, поля опустошались, кровь лилась
бесконечным потоком, и глубокая ночь освещалась заре
вом старого мира. Бурным, всеуничтожающим потоком
прошли мы шар земной от края До края и смели с лица
земли грандиозное здание старой, лживой и затхлой жиз
ни. А миллионные толпы оглушительно кричали:
— Слава нашему великому вождю! Слава ему вовеки!
Но, когда гроза, наконец, промчалась и «настало время
творить и созидать», люди приступили ко мне и стали
спрашивать:
— Скажи нам, вождь, что же нам теперь делать?
Но в ответ я молчал. Ибо я был грозой, а не миром.
Я умел разрушать, но не умел строить. Тогда толпа при
шла в ярость, взбунтовалась против меня и стала кричать:
— Зачем ты увлек нас за собой, проклятый безумец?
Я был низвергнут с высоты в бездну. Великий подъем
сменился великим разочарованием.
И вдруг вся жизнь человечества со всеми ее печалями
и радостями, тревогами и волнениями, показалась мне «та
кой грустной, бесконечно грустной, и жалкой, и смешной
историей»...
Олигеру моя фантазия страшно понравилась... Он нахо
дил ее не только хорошо написанной, но и очень глубо
кой по содержанию.
— Знаешь что? — вдруг воскликнул он с энтузиаз
мом. — Почему бы тебе не напечатать свое произведение
в газете? Ну, например, в «Сибирской жизни»?
«Сибирская жизнь» была крупная по тому времени том
ская газета, к которой все мы относились с почтением.
Это было не то, что наш омский «Степной край». То об-
196
стоятельство, что Олигер упомянул в данной связи имен
но о «Сибирской жизни», сильно льстило моему самолю
бию. Тем не менее я не чувствовал полного внутреннего
удовлетворения. Хотя мое стихотворение в прозе нрави
лось мне, как литературное произведение, оно лишь в
особо яркой форме подчеркивало незаконченность всей
нашей концепции, зияющую пустоту в столь увлекавших
нас тогда построениях. Прекрасно: мы приводим в движе
ние миллионные толпы угнетенных и обиженных, мы про
носимся грозой над миром и разрушаем до основания
старую, мерзкую жизнь, а дальше что? На этот основной
вопрос у меня не было ответа, и отсутствие его меня бес
покоило и раздражало.
Тем не менее совет Олигера пришелся, как говорится,
кстати. Я снес свое произведение омскому представителю
«Сибирской жизни», старому народнику Шахову, и с
трепетом стал ждать результатов. Каковы же были мои
восторг и упоение, когда недели две спустя я увидал
свою фантазию напечатанной в «Сибирской жизни»! Она
занимала две трети подвала на второй странице газеты,
и заголовок ее был выведен такой красивой, тонкой, поэ
тической вязью...
Это было настоящее торжество. К тому же я получил
гонорар — первый в моей жизни литературный гонорар —
6 рублей 69 копеек! Я повел Олигера и еще целую ком
панию друзей в гостиницу «Европа» (хотя это строго
запрещалось гимназическими правилами), и мы там устро
или настоящий «пир». Все поздравляли меня с успехом и
предрекали мне большую литературную карьеру. Это бы
ло приятно. Однако на следующий день я услышал нечто
иное. Жена Шахова — большая, мужеподобная женщина
с коротко подстриженными полуседыми волосами — при
гласила меня к себе и жестоко отчитала за идею моего
произведения.
— У тебя есть дарование, — грубовато говорила она,
величая меня на «ты», — но по содержанию твоя фантазия
никуда не годится. Мысли у тебя реакционные!
— Как реакционные? — с возмущением воскликнул я.
Я чувствовал себя тогда страшным «революционером».
Но Шахова со мной не соглашалась. Она, так же как и ее
муж, была старая народница и теперь атаковала меня со
своих позиций. Я молчал и слушал. Слова Шаховой были
для меня не во всем убедительны, но я чувствовал, что
197
их нельзя просто пропустить мимо ушей. Они давали свой
ответ на мучивший меня вопрос: что же дальше? Мне толь
ко казалось, что в этом ответе правда как-то странно
перемешана с неправдой. Впрочем, доказать этого даже
самому себе я тогда еще не мог.
Как бы то ни было, но в моей жизни была пройдена
важная веха: я стал «печататься» в газетах!
В ту же зиму моя «слава» поэта вышла за стены гим
назии, и я превратился в омскую «знаменитость».
Незадолго до рождества в гимназии был устроен лите
ратурно-музыкальный вечер с танцами. Это было вообще
новостью. До того ничего подобного в нашей жизни не
случалось. Однако нарастающее общественное движение,
одним из симптомов которого были все учащавшиеся в то
время «студенческие беспорядки», вынуждало правитель
ство к известному маневрированию, к нерешительным по
пыткам путем мелких уступок по мелким вопросам отве
сти удар приближавшейся грозы. Конечно, все это было
совершенно бесполезно: крохотные щелки, открываемые
властями в наглухо захлопнутых окнах царского режима,
не в силах были разрядить глубокого напряжения сгустив
шейся атмосферы. Однако в установившийся распорядок
жизни они вносили кое-какие маленькие изменения. В Томск
был назначен более либеральный, или, вернее, несколько
менее реакционный, попечитель учебного округа. Он разо
слал по подведомственным ему гимназиям новые учебные
планы, которые в области древних языков ослабляли зуб
режку грамматики и усиливали чтение авторов, отменяли
каникулярные и сводили на-нет домашние письменные ра
боты, предоставляли больше самостоятельности педагоги
ческому совету и рекомендовали устройство разумных
развлечений для учащихся. Одновременно в нашей гимна
зии произошла смена директоров: Мудрох ушел в отставку,
а на его место был назначен Головинский, старавшийся
разыгрывать из себя «просвещенного человека». Наш сло
весник Петров, со свойственной ему ловкостью почуявший
«новые течения», вдруг превратился в большого «радика
ла» и «друга учащихся», ругал прежние правила и про
граммы и извинялся за сухость той учебы, которой он