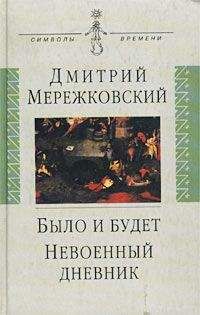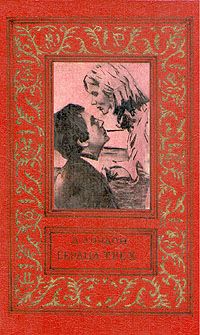Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
27 апреля
Наш деньНовая, оригинальная, интересная жизнь.
У опушки леса, на краю поляны, поставлена офицерская палатка, живем вчетвером, поодаль стоят палатки команды. У них пока тихо. Не заладилась погода, целый день стужа и дождь; много работы, заботы о лошадях, двуколках, фурманках… Но есть там гармошка, есть любители попеть, удариться вприсядку. Со временем в дни отдыха наладится и эта часть. А теперь – теперь только самый неугомонный иногда топнет на ходу раза 2 да гаркнет 2–3 слова любимой песни. И только. Все заняты. Работают плотники, работают кузнецы, портные, печники, конюхи. Дела много, отдыхать некогда. У нас много своей работы. Поднимаемся рано утром, будит обычно Гребенщиков. За ним поднимается Кузьма, потом Леон, и, потягиваясь и вытягиваясь, я завершаю картину пробуждения. То же ввечеру, порядок тот же: Гребенщиков первый, я последний. Здесь устраивают чай. На столе масло, хлеб. И тут же начинается распределение дела, наказ уезжающему в город Кузьме. Наряд обыкновенно составляется с вечера. Гребенщиков опрашивает наши требования, оформляет и каждому дает распоряжение на следующий день. Приходится заниматься бог знает чем: лечишь лошадей, устраиваешь двуколки, учишь санитаров переносить, брать, класть мнимораненых. Вчера мы раскинулись по поляне. У 6 носилок работало 12 человек. Клали своих солдат, носили их по лугу. Подошли две женщины; остановились. Потом заплакали вместе. Потом одна упала на грудь другой и зарыдала. Было, знать, о чем порыдать. Команда быстро приучалась к делу. Шаг был ровный; поняли, запомнили мою просьбу об осторожности и мягкости обращения и своих ребят укладывали и снимали нежно, тихо, словно грудных младенцев из люльки. С готовыми двуколками поехали определить тряску. Накануне, когда я вез с собою из города в лагерь десять двуколок, навстречу шел батальон солдат. Впереди тихо, сгорбившись, шел пожилой офицер, по-видимому, из запаса. Поравнявшись с двуколками, он вдруг оборотился к солдатам и крикнул: «Ну-ка! Умер бедняга в больнице военной!» И разом запели солдаты. Полилась грустная песня, захватила, увлекла. Я чувствовал, как подступали к горлу слезы.
И так с утра начинается наша разнообразная работа. А часов в 12 обед. Обед из общего котла с солдатами: горох, каша. Широкие деревянные ложки, вид на поляну, солдатский говор, свежий воздух, бодрое, напряженное состояние. Попросту, без затей. И вспоминается с отвращением прошлое сытое житье в поезде, где было так много борьбы из-за третьего блюда. Здесь одни мужчины. У нас как-то сам собою отпадает вопрос о богатом столе; что есть – на том успокаиваемся. И это не похвала нам, это только укор женскому желудку, победившему душу. Каждую минуту возникают новые требования, появляются новые дела. А вечером, часов в десять, Зуев приносит носилки, приготовляет постели. И так почти под открытым небом идет наше житье.
2 мая
Пришло время сдавать счета.
Сердце билось, словно рыбка, угодившая в вершу. И отчего бы ему так колотиться? Неповинна совесть, покойна душа, а сердце колотится, не унимается, словно беду почуяло. В палатке холодно, сидим все в шинелях. Кузьма сидит рядом и приготовляет свои бумаги, Леонид что-то разносит по своим капитальным книгам и изредка нежно-нежно касается пальцами правой руки начинающего лысеть затылка. Это минута наибольшего напряжения, это он соображает и раскидывает мыслью. Кузьма грузен и молчалив. Гребенщиков хмурится и предвкушает горе отчетности и проверки наших бесшабашных счетов. Подали один, другой, третий…
– Слушайте, нельзя же так писать. Это что такое? Кто получил, когда, за что получил?.. Ничего не понимаю. Господа, нельзя же так. Нет, это черт знает что такое.
Брови сдвинулись, стали как будто гуще и рельефнее, высокий умный лоб избороздился морщинками. Идем дальше. Одни проходят гладко, другие с отметками и поправками, третьи с укоризной, четвертые с бранью и скрежетом зубовным. Я, конечно, не робею: совесть моя чиста до дна, дух мой спокоен, потому что знаю, что и он, Гребенщиков, верит мне до дна. Налицо один только стыд – стыд за свою беспомощность, за неуменье, за мальчишескую свою неосторожность.
– Нет! Нет, так нельзя! – вскрикивает вдруг он. – Я этого счета не беру. Не беру счет, как хотите. Так счета не пишут.
Я молчу. Я знаю, что прогремят слова и за ними объявится простой, легкий выход из создавшегося положения.
Гребенщиков всегда таков: накричит, перепугает и в результате устроит безукоризненно честно: отнесет очевидные, но и путаные расходы в другую статью, закрепит своей подписью – и дело в шляпе. Моя страда кончилась, кончилась сравнительно спокойно. Главную муку перенес Леонид. У него была большая неурядица благодаря безграмотным росписям солдат. Ему пришлось перенести тяжелую сцену укора, брани, почти оскорбительного подозрения. Не думаю, чтобы Гребенщиков подозревал его в произвольных перерасходах, но сам Леонид многое истолковывал в этом смысле.
– Это черт знает что такое! Я не допущу такого разгильдяйства. «За неграмотного Живосоренцова получил Стенмащук». Да это что же такое?.. Да как же он мог получить чужие деньги?.. Он не получал их! Он права не имеет, он всего только расписался за неграмотного. Ну, господа, – как будто смягчился он вдруг. – Ну как же это можно?.. – И вдруг яростно кричал: – Это ведь не свои, это чужие деньги… Понимаете: чужие-е… И как вы смеете обращаться с ними так небрежно? И с такими суммами! Здесь ведь 193 рубля. Да знаете ли вы.
– Гребенщиков, – тихо прервал его разбитый и уничтоженный Леонид. – Гребенщиков, ну не взял же я их себе. Ну посудите сами.
– Что вы мне басни-то разводите, – обрывал Гребенщиков. – Вас никто и не подозревал в этом. Вам только говорят, что так нельзя, так нельзя счета составлять, понимаете?
Голос у него начинал обрываться, ноты все тоньше и выше, глаза все яростнее, брови гуще, и движенья порывистей. А Кузьма замер сбоку. Машинально перелистывал свои бумаги и обоими ушами жадно и трепетно ловил страшные укоры. Но ему уже легче было идти по пути, проложенному Леонидом. Так оно и вышло. Кузьме были сделаны резкие, надрывные указы и укоры, была с ним брань, но все это имело уже характер повторяемого, отгремевшего свою первую, свежую силу. Так кончилась отчетность, кончилась двухдневная мука. Бранились, кричали, спорили, а потом – потом, за вечерним чаем, искренне шутили, смеялись и по-приятельски острили, вспоминая недавнюю бурю.
СамоварчикКак долго мы ждали его! За вечерним ли чаем, когда просили душа и тело законного себе отдыха; за утренним ли завтраком, когда просили душа и тело укрепить их на дневную работу, – только и разговору у нас было, что о нем, о самоварчике. Мы вспоминали его, словно далекого, общего, милого друга; тосковали по нему; открывали в нем массу еле приметных достоинств, мечтали о нем, слали ему свой дружеский привет и ждали, ждали его бесконечно. И он пришел. Он не пришел, а Кузьма торжественно привез его на своей знаменитой таратайке, привез неумытого, утерявшего где-то свой медный череп. Это нас не смутило, не разбило нашу радость. Встретили друга ласково, гостеприимно. Каждый подходил, любовно заглядывал в его худую голову, потирал руки и значительно улыбался. Скоро мы водрузили его в центре собрания. Зуев отчистил, отмыл его загрязненное бренное тело, припомадил, налоснил. И вот стоит он, играя желтыми тонами, улыбаясь, словно жених перед брачной дверью. А мы осматривали его со всех сторон, похваливали, благодарили за то, что принес к нам разом так много тепла и жизни. А тепло нам было дороже веселья. Дни стояли такие суровые, что шинель волоком не стащишь с плеч; целые дни в воздухе носились то снежинки, то дождевые капли, то горошинки града, была какая-то неопределенная сумятица, от которой нам доставалось жестоко. Мерзли, но не роптали. Даже наоборот: радовались тому, что сразу послано испытание, что судьба начала закалять нас с первого шага. И вот тут, в эти ненасытные, холодные предмайские дни, пришел к нам он – толстый, блестящий, так задорно дышащий жизнью и теплом. Ну как же было не радоваться; как можно было не восторгаться им, не приветствовать его как желанного, дорогого друга?! Теперь каждый день он сияет перед нами, очищенный и умытый Зуевым; шипит, волнуется, веселит нас своей неугомонной, заунывной песнью.