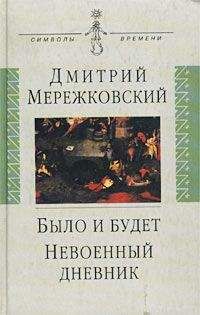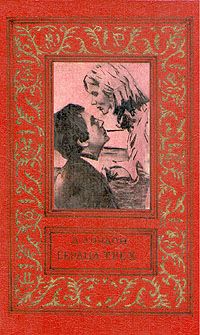Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
– Вы что сидите прикутавшись?
– Разболелось тело, руку ломит.
– А что с рукой?
– Да я же ранена была.
– Ранены? Давно? Расскажите, сестра.
Она провела худой рукой по волнистым темным волосам, взглянула на меня и, словно почувствовала доверие, а может, и от скуки, свободно и охотно стала рассказывать.
– Это было еще в феврале прошлого, 15-го года. Под Сувалками был тогда окружен 20-й корпус генерала Булгакова, при котором был наш подвижной лазарет. Кольцо стягивалась все уже и уже… Нас придавили в лесу, и корпус сбился в одну громадную кучу. Выхода не было, пробились только два полка – о них восторженно отзывались в Германии, это я узнала уже после, в плену. Вообще, у них есть своеобразное благородство: исключительной доблести и храбрости врага отдавать должную честь. И вот мы сбились в лесу. Об этой опасности гадали и раньше – потому все ценное и тяжелое из нашего лазарета было увезено месяцем раньше. Оставили только нас – несколько сестер и врача – подбирать последних раненых при отступлении. Нас как будто бросили, не дали даже никаких инструкций на случай осложнений. Вообще скажу вам, что в критическую минуту сестрами не особенно дорожат, оставляют и бросают их, как неценный, легко пополняемый материал. И мы кочевали эти девять дней – голодные, прозябшие, кочевали с поляны в лес, из лесу опять на поляну. Бессонные ночи измотали нас вконец, а опасность все грознее, разрывы все ближе. Как тяжелы были эти девять дней!.. Вспомнить теперь – страшно от одного воспоминания. А тогда. Нет, всего не передашь!
Она быстрее, чаще проводила рукой по седеющим, красивым волосам, сдерживала себя, но голос заметно дрожал, а глаза горели и злобой, и страхом, и непомерным восторгом.
– Бежать было некуда, – продолжала она минуту спустя. – Кругом немцы. Потом ударились все к Сувалкам, не знаю почему, но как-то инстинктивно один тянулся, бежал за другим. Поднялись и мы. Был уже поздний вечер. В этом хаосе, в паническом бегстве я потеряла своих. Мчались мимо всадники, мчались сорвавшиеся лошади, двуколки, обозные телеги, бежали люди, солдаты, офицеры, сестры – все бежало, кричало, терялось во тьме. Я прицепилась к фургону; он был облеплен солдатами – и где же было мне удержаться, когда сваливались даже солдаты? Лошади рванули, я полетела вниз, поднялась, отошла в сторону и села. Потом притихло. Все проехали мимо. Я осталась одна. Едет священник и с ним какой-то чиновник. Попросилась, посадили. Потом остановили лошадей, отпрягли. Я ничего не понимала, все происходило в глубоком молчании. Поп сел на одну лошадь, чиновник на другую – и ускакали, а я осталась сидеть в пустой тележке. Посидела-посидела, ничего не надумала. Сошла с тележки и побрела в темноту.
Куда было идти и зачем вообще идти: – я ничего, ничего не знала. Пришла в лес, там голоса. Что это: свои или немцы? Подкралась, прислушалась. Это были наши, запутались в чаще и не могли выбраться. В это время лес начали жестоко обстреливать. Кругом рвались снаряды, мы не знали, куда бежать. Потом я почувствовала вдруг, что не могу идти, опустилась – сквозь рукав просачивалась кровь, ломило спину. Больше я ничего не помню. Нас перебили всех – кого убило, кого ранило. Подобрали нас германские санитары; я очнулась в двуколке. Таким образом я попала в плен. Меня направили прямо в Кенигсберг. И вот, когда я лежала в лазарете, – только здесь я поняла и почувствовала, как дорога мне родина, как я люблю ее, как тяжело мне за ее неудачи. Каждый день доктор приходил и объявлял мне, что германцы гонят русских, что взяли одну, другую, третью крепость… У них было постоянное ликование. Они никогда не пишут о своем поражении, пишут только об удаче, и, когда под Шавлями у них отняли много орудий и разбили целые полки, – в газетах была только короткая заметка об очищении немцами передовых шавельских окопов и об оставлении трех орудий. Ухаживали они за мной хорошо, сестры часто приносили мне цветы и говорили со мною как могли.
Но доктор часто был невоздержан: ругал русских, корил их за вторжение в Карпаты и злорадно уверял, что нас догонят до Сибири, что нам не на что упереться. И так как мне больно было от этих слов, так как и много выстрадала за эти 6 месяцев, то теперь прямо скажу, что русскому человеку невозможно не любить Россию. Пусть он думает о ней как хочет, пусть не верит в это чувство. Но придется ему пройти через такое вот испытание, как мне, – почувствует, как он любит Россию. Я не считала себя патриоткой, но эти непрестанные манифестации, это явное торжество победителя – измотало, издергало меня окончательно. По десяти дней я не брала газеты в руки, чтобы не читать, только не знать ничего о наших поражениях. Но все время была неотвязная мысль, была надежда: «А может быть… А может, и мы что-нибудь взяли»… И снова, снова одни поражения. Боже мой, как было тяжело.
Я вам передала только факты, а что на душе было и осталось – не передашь словами.
Замолчали. Глубже в подушки просунула ноющую руку. Вздохнула. И видно было, как толпились перед нею сотни образов, еле уловимых, сотни мыслей и чувств, не передаваемых человеческой речью.
Рассказ фельдфебеля (разведка)Задача нам была дана короткая, но трудная: перерезать проволоку перед германскими окопами. Дело нешуточное: до проволоки нельзя дотронуться – сейчас же зазвенят колокольчики. Стражи ночью, правда, они много не ставят, зато часто пускают ракеты, а под ракетой как на ладони видно. Нас вызвалось шесть человек: ребята одни другого отчаяннее, горячие ребята. Только с такими и трудно в этом деле, главное, торопиться не надо. То есть оно и надо торопиться, да не очень, чтобы все дело не попортить.
Темная была ночь на ту пору, эх, темная! – мы только по голосу один другого узнавали. Направление знаем, знаем, сколько и рядов. Порешили доползти первоначально в котловину и там лежать до тех пор, пока не затухнет новая ракета. А как затухнет – сию же минуту к проволоке и за дело. В котловину заползли – прилегли, не дышим, тут уж до проволоки недалеко. Вижу: Бутько рядом со мной – на траве-то светлее, разглядел. Лежит и рукавом трет себе нос; прочего движения – никакого. Легли по порядку, один смежно к другому. Ну вот и она – поднялась, остановилась в воздухе и горит. А на поляне словно днем, хоть в чехарду играй – как видно стало. Ребята все приникли к земле, а я поглядываю из-за камня да наблюдаю. Вижу: стоят на горе двое и поглядывают во все стороны. Туда, сюда посмотрели – ничего не видно. Один показал пальцем в нашу сторону, видно, что-нибудь про котловину говорил, но другой махнул рукой – и тот успокоился. Отошли дальше, а свету все меньше и меньше. И когда ракета сгорела, такая сделалась тьма, словно пуще прежнего.