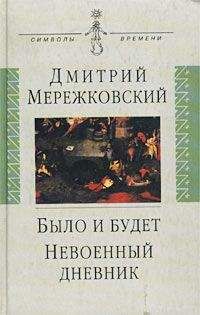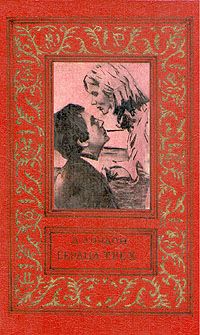Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
31 октября
БойБыло такое чистое и светлое утро, какие бывают только в хорошую осень. А осень хороша. Старожилы
не помнят, чтобы здесь, в этом сплошном и вечно слезливом болоте, была такая сухая, молчаливо-прекрасная осень. Солнце медленно и величаво поднималось над землей, озарило голубую окраину, осветило густую небесную синеву, зацеловало и зарумянило легкие пуховые облачка; потом заиграло по вершине оголенного, сухопарого леса; смело и легко рассекая полуобнаженные ветви, светлыми лучами вонзалось вглубь и там золотом и пурпуром играло на сухой пелене облетевшей листвы. Было чисто, тихо и радостно. И вдруг, словно раскаты грома, понеслись в этой светлой и чистой тишине первые зловещие орудийные стоны… Потом еще и еще… Заревели ненасытные, беспокойные жерла; словно воробьи зачирикали – мелкой дробью застучали пулеметы; словно в ладоши хлопали – били отдельные ружейные залпы. И так целый день носился ужас смерти, постепенно замирая через сумерки и вечернюю мглу, пока не спустилась черная, жуткая ночь.
«Мы еще на заре были встревожены, – рассказывал офицер, – странным движением и какой-то напряженностью, которые замечались в неприятельских окопах и за ними. Лежа в окопах, больше чувствуешь, чем понимаешь, больше предугадываешь, чем знаешь или ориентируешься в обстановке. И эти несколько минут на заре перед первыми сигнальными выстрелами были как раз таковы, что мы все невольно насторожились и ждали чего-то крупного. Наши окопы были за Медвежкой; деревня, полуразоренная и неприютная, темнела за спиной. Тут залегли полки Оренбургской казачьей дивизии, левее были стрелки. С нашей стороны активного ничего не предполагалось, и в лучшем случае мы могли удержаться в старых окопах. Пальба разгоралась все сильнее; звенели и жужжали мимо летящие снаряды; лопалось сверху – и тогда стальной дождь засыпал окопы; лопалось на земле – и земля дрожала; снаряды вонзались в песчаную землю и злобно выбрасывали целые тучи песку; зияли всюду огромные черные ямы, наподобие изящной, обделанной воронки. Тяжелый снаряд угодил в халупу, разнес ее на щепки, и эти щепки долетели к нам в окопы. Мы лежали, приникнув к земле, и каждую минуту ждали своей неизбежной участи. Стрелять было невозможно: лишь показывалась из окопа рука или голова, как с противоположной стороны начинали отчаянно трещать пулеметы и ружейные залпы. У них, по-видимому, был план: не дать нам возможности двинуться с места и положить всех одним орудийным огнем. В таком ужасе пролежали мы целый день, и лишь только завечерело, дан был приказ отступить. Мы оставили за собою Медвежку, оставили Цмини и перешли Стырь. Теперь снова все по-старому. По берегам Стыри, этого крошечного Рубикона, снова vis-a-vis расположились наши и неприятельские окопы».
У ЧарторийскаУ Чарторийска бои не прекращаются. Они то спускаются к Новоселкам, то снова подбираются к Стыри и захватывают Чарторийскую гору. В этот день, 31 октября, с раннего утра неслись к нам в Рафаловку глухие звуки орудийной пальбы. Канонада наибольшей силы достигла к полудню и, постепенно утихая, совершенно прекратилась в сумерки. Мы стояли на высоком голом месте, близ Заболотья, откуда прекрасно видна была и чарторийская церковь, и Полонное, и дальние холмы, откуда неслась громовая канонада. Отсюда, с горы, были видны белые, темно-сизые и красные дымки от рвущихся снарядов. Блеснет, словно огромная искра, блеснет на одно мгновение, и появится дымок. Он медленно и как-то нехотя начинает расползаться, а рядом уж другой, третий… Скоро вся полоса неба от Чарторийска до Медвежки была изранена этими разноцветными ползущими пятнами дымков. Трещали пулеметы, взрывались ружейные залпы.
От Заболотья к Рафаловке дорога лесом. Только что вышли мы на поляну, как со всех сторон защелкали ружейные выстрелы. Это наши стреляли по крылатому хищнику. Аэроплан летел над самой поляной, летел спокойно, не обращая внимания на пальбу. В селении он бросил две бомбы, но попали они на дорогу, и на местах взрывов остались только две глубокие воронки – ямы. Спускались сумерки. Канонада стихала.
Вечер мне пришлось провести в теплой компании членов подрывной команды. Мы засиделись за полночь. Часа в три прибегает вестовой, казак: «Ваше благородие, скорее надо послать к мосту 3 пуда пироксилину или толу. Наши отступают, дан приказ до свету взорвать мосты». С этого времени целый час непрестанно трещал телефон. Происходили совещания. Живо собрались, дали распоряжение приготовить паровоз и пустой вагон. От Рафаловки к Полонному, где надо было взорвать мост, железная дорога только что налажена.
То и дело влетал Тупица – простой солдат, заведующий подрывным складом. По фамилии Тупица, а на самом деле умный, смекалистый, расторопный мужик. И странно было слышать от него, питомца деревни, что вот, дескать, «у меня есть 52 капсюли… шашки я заложу со своими ребятами, а то новые робеют. Прошлый раз я взрывал по горло в воде, а пули-то кругом ж-ж-ж, ж-ж-ж. Холсту я тоже захвачу, ваше благородие.» И вот все в этом духе. Да говорит так дельно, уверенно, легко, словно дело это привычно ему с самого детства. Вышли мы. Ночь темная-темная. Огонек нырял где-то поблизости, а около него все пыхтело, дулось, шипело. Ну вот и паровоз. Поехали.
«Значит, подъедем к Заболотью, к переезду. Ты, Тупица, беги туда и возьми казаков, зайди в штаб Оренбургской дивизии, доложи». – «Слушаюсь». Медленно, тихо пробирался паровоз с вагоном, где лежали эти ужасные 3 пуда. А ну как треснет? К черту, лучше не думать! Выехали, по-видимому, на поляну. Да, конечно, это заболотянская поляна. А вон и огонек, словно одинокий глаз, неподвижно застыл во тьме. Далекое зарево бросило легкую туманную пелену на целую полосу неба. Теперь, миновав лес, были видны расплывчатые контуры сизых, темных и совсем черных туч. Края их стыдливо мигали, и темная бесформенная масса оттого становилась еще грознее, еще чернее. «Господа, это не зарево, то есть не только зарево – это неприятельский прожектор за Чарторийском нащупывает место». И мы увидели, как эти светлые, бледно-лиловые полосы начали тихо-тихо передвигаться по небу. И вот справа, оттуда, с Медвежки, вдруг плавно и величественно выплывает ракета, за ней другая, третья… Она взовьется, хлопнет с легким треском и вся обольется таким частым, немигающим светом. На мгновение остановится в вышине, а потом медленно-медленно начинает опускаться по вертикали. И светлый, яркий огонь далеко обнажает черную, непроглядную долину. Загремели как-то странно и неожиданно уснувшие орудия, засверкали в воздухе шрапнельные разрывы. Ракета как-то обольстительно плавно разрезала тьму, а шрапнель рвалась быстро, зло, грохотно. Блеснет, как чертов глаз, ухнет – и посыплется страшным дождем. Картина была величественная. Орудия гремели, и эхо далекодалеко разносило этот гром по ночной тишине; плавали ракеты, рвалась шрапнель – и над всем этим царственно и властно играл далекий прожектор, отраженный сюда лишь бледными лиловыми тонами. И когда прожектор ласкался в другую сторону, когда умирали на мгновение ракеты и рвалась шрапнель, – сдвигалась такая жуткая черная стена, что не было видно ни леса, ни пригорка, ни близкой деревни.