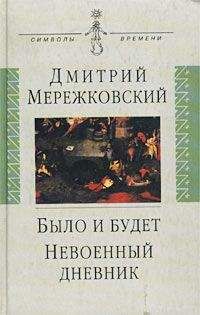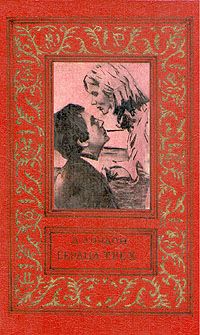Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
Я видел, как умирал молодой улан. Были сумерки. Он один лежал в грязноватом, мрачном вагоне и тяжко, трудно так дышал… По сереющему красивому лицу расползались во все стороны морщины смерти; сползали с груди ослабевшие дряблые руки, редко, медленно гнула конвульсия белые широкие ноги. Волосы сделались клейкими, и отдельные, отбившиеся волоски расползлись во все стороны по вискам, по лбу, торчали склеенные по нескольку, вместе. Он то и дело открывал обессиленные, тусклые глаза, шевелил пересохшими, потрескавшимися губами, дергал скулами – ничего не выходило, только рвалось из груди хриплое, бессильное шипение. Он умирал. А я знал, что еще раз он хочет рассказать мне о молодой жене и малютке сыне. Может быть, благословить хотел бы их через меня, а может, просто поцеловать и проститься в словах, поговорить о них, пережить хоть на миг недавнее былое. Тихо сжималось и крючилось тело, тихо закрывались глаза, и к холодному, высокому лбу еще плотней приклеились мягкие, словно слизью покрытые волоски.
И, склонившись над покойником, я думал все о недавней его жизни с молодой женой и малюткой сыном. Мне было жаль и осиротелую семью, и молодого, несчастного улана. Слезы едва не пробились на влажные глаза. Прошло время. Я уже не успевал окидывать мыслью жизнь каждого умирающего, я не знал, кто он, откуда, есть ли у него жена, ребята, семья. Я глядел только ему в лицо и, зная, что скоро оно застынет, остановится жизнь, томился душой и молча отходил в сторону. И прошло еще время. Перед глазами и душой прошли бесконечные вереницы человеческого страдания; я забыл об иной жизни и привык спокойно глядеть в лицо умирающему. Я теперь уже редко думаю о его семье, даже о нем самом, – я только больше и глубже с каждым разом, с каждой новой жертвой возмущаюсь этой непостижимой бессмыслицей. Прежде я возмущался, лишь зная о факте, теперь я возмущаюсь, видя его…
27 октября
Они были обречены на смерть – два молодых стрелка и германский офицер. Их принесли в самый разгар работы и в ряд приставили к стене, успокоив, что скоро, дескать, будет операция, а там и боль утишится. Раны тяжелые, сквозные, пробитые груди и животы, образовался перитонит. Им сначала все не давали пить, несмотря на мольбы, а потом махнули рукой: не все ли, дескать, равно – конец один. Тогда мы подносили им к горящим губам смоченные водою кусочки ваты, обтирали десны, небо, губы. А потом стали давать прямо из кружки. И о них как-то забыли. Работы была такая масса, что на утешение этих безнадежных не оставалось времени. Я изредка подходил, и все трое тогда спрашивали: смертельная рана или нет? Офицер протягивал ко мне белые, красивые руки и спрашивал по-немецки, что за рана, велика ли опасность, и, когда я успокаивал, он начинал говорить что-то нежное-нежное, он ловил мои руки, жал их своими слабыми холодающими руками, благодарил меня. У него были русые волосы и прекрасные голубые глаза. Лицо умное и доброе, а кожа на лице просвечивала, словно у зреющей девушки. Он жаловался на нестерпимую боль, и, когда попросил помочь ему сесть, мы не препятствовали. Последний раз поднялся он, посидел минуту и бессильно опустился снова на койку. Он умер первым – спокойно и тихо, так что стрелки не заметили его смерти. И, когда унесли холодеющий труп, один из оставшихся грустно сказал: «Вот его унесли, а меня не несут. Скоро ли же будет мне операция?» Он не знал, бедный, что и его через полчаса понесут так же, как этого офицера, только не на операцию, а в могилу, что и про него последний оставшийся товарищ будет говорить: «Его вот взяли, а меня не несут…»
Один за другим умерли они с мучительной жаждой жизни и с надеждой на неведомую спасительную операцию. Они гасли у нас на глазах, и не было возможности помочь, спасти от смерти. Веки вдавались все глубже и глубже в широкие орбиты стеклянных глаз; они по краям, словно траурной лентой, обвились зловещею, черной полосой, и потому ресницы казались особенно густыми, а впадины глаз особенно глубокими. Матовое лицо делалось неподвижным, и как-то странно, почти у нас на глазах, поднимался кверху заостренный кончик обтянувшегося строгого носа. Силы оставляли; закатывались глаза; реже становилось дыхание. Последний глубокий, прощальный вздох – и кончена жизнь. А на кладбище прибавилось два новых белых крестика, которые срубали солдаты на могилы покойным стрелкам.
29 октября
Большинство санитаров – меннониты. На Кавказе в санитарных поездах Земского союза меннонитов 95-100 %; здесь, на западном театре, их процентов 50–60. Я говорю о частных организациях: в военной их нет, там ротные, полковые и дивизионные санитары – исключительно солдаты. Теперь за год войны в санитарные поезда и отряды частных организаций санитарами попало много так называемых пальчиков – раненных в пальцы солдат. Живут они совершенно на тех же условиях, что и меннониты, числятся по-старому военнообязанными, получают 75 копеек в месяц жалованья.
Из санитаров выбирается главный, выбираются заведующие складами, аптекой, перевязочной, – эти получают 6–8 рублей в месяц. Живут они обыкновенно в вагонах 3-го класса, помещаются по четверо в купе. Содержанию каждого санитара отводится 40–50 копеек в день. Меннониты, народ большей частью зажиточный, обыкновенно питаются и добавочно, за свой счет. У них часто можно видеть за чаем колбасу, сливочное масло, сыр. Наши «пальчики» такой роскоши избегают, и надо сказать, что в сравнении с меннонитами они кажутся серыми, темными мужичками. Меннониты все грамотны, многие даже образованны, в большинстве зажиточные или просто богатые. Народ удивительно чистый, нетронутый, услужливый и надежный. Если ему уж что-нибудь поручил, то будь спокоен, что сделает в самом лучшем виде. В них совершенно нет кичливости своей исполнительностью, делают много, хорошо и молча.
Работа санитара – трудная работа. Кроме того что приходится иногда переносить десятки и сотни тяжелораненых, надо еще неотрывно пробыть при этих раненых до момента сдачи. А этот момент иногда приходит через 3–5 дней. Когда нам приходилось на Кавказе перевозить раненых из Сарыкамыша или Джульфы в Баку, то с разными задержками в пути мы были 4–5 дней, и все это время санитар должен был почти неотлучно находиться в теплушке. Он доносил нам о состоянии раненого, если оно ухудшалось, и, если не хватало времени самому навещать чаще, кормил их, переодевал, сменял постельное белье, помогал оправляться, бегал им за покупками на остановках… И эти 3–4 ночи проходили почти без сна. Часто не находилось места, койки все были заняты, и тогда санитар, скрючившись, дремал целую ночь где-нибудь в углу. А известно уж, какая жестокая тряска идет в теплушках. На койке лежать еще ничего, но прислониться к стене или устроиться прямо на полу – одна мука. А за больными они ухаживают, словно за родными. Не было случая, чтобы санитар не только отказался, но даже замедлил исполнить какую-либо просьбу больного, – летел по первому зову, несмотря на усталость и бессонные ночи. У нас условия работы другие, мы чередуемся, дежурим, а у них часто бывает так, что одновременно все находятся на местах и никаких чередований устроить невозможно. И я никогда не слышал ни единого слова ропота или недовольства. Молчание – их отличительная черта. Между собой они живут удивительно дружно, а эта дружба предупреждает всякие разногласия и ссоры, которые столь естественны в скученном, тесном общежитии. Они никогда не отказываются, не уклоняются от работы, не пытаются спрятаться за чужую спину или работать только для виду. Солдаты их любили, благодарили без конца и называли не иначе как «господин санитар». Там, на Кавказе, санитары задарены разными диковинками: персидскими и турецкими монетами, ножами, кинжалами, разными безделушками – это все благодарные солдаты оставляли им по себе память. И, расставаясь, солдаты с санитарами как-то особенно дружественно и тепло говорили на прощанье много про хорошее житье в поезде, про хорошее обращение и заботу, жали руку, благодарили. А санитары всех своих больных знали по имени и фамилии и через недели, а то и месяцы помогали нам в случайных справках. Лучших санитаров, чем меннониты, не найти. Они – прирожденная доброта, ласковость и спокойная, заботливая исполнительность – качества неоценимые для санитара. И если уж рассматривать вопрос о привлечении меннонитов в войска, то с этой точки зрения он должен быть оставлен без разбора, потому что лучших санитаров не найти.