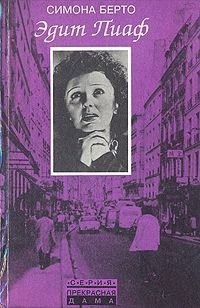Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
— Два пакетика по четыре копейки!
Но Михаил Голодный писал же не об этом…
Братцы, я любил девчонку,
Пел ей песни, звал ребенком,
А она меня, смеясь,
Обманула двадцать раз!
А ведь мы же, как и он, тоже любили девчонок. И Вовка Шканов был в этом деле орёл. Он Зойку Молдованову саму любил! Я тоже, конечно, любил эту потрясающую Зойку, но был во втором составе. Мама её (отца, конечно же, не было) служила газировщицей. В летнее время она работала долго, иногда до двух ночи, и мы вместе с Вовкой, когда матери наши были на ночных дежурствах, провожали Зойку, идущую маму её встречать. Мама Зойкина работала неподалёку, всего-то за углом, на Садовой, где был продовольственный магазин, называемый всеми по старому ещё хозяину — «У Соловья». Мы подходили, мама Зойкина отсоединяла газированную свою тележку от газовых баллонов, предварительно угостив нас «с сиропом», а потом мы катили этот агрегат до соседнего с нами двора — Дом Шестнадцать, — а идти вот так с Зойкой, и даже при маме, было тревожное наслаждение.
Однако были у Михаила Голодного и другие стихи, вот именно, что тревожные. И тревожились мы с Вовкой Шкановым вместе:
Стонут скрипки, ходят пары
Не вперед и не назад,
Молча пляшут коммунары,
Семеро моих ребят…
Это была затаённая до поры до времени облава. Но не это тревожило нас, тревожило вот что:
Хлопец, хлопец, я сырая,
Отогрей меня, прижми,
У дверей держись к сараю,
Ляжем в сено за дверьми…
Ну, сарай, это было понятно. Но это вот «ляжем» — с ума сводило! Это ж не просто девчонку любить, это что-то иное, из запретного взрослого мира. А ещё там была –
Верка Вольная, коммунальная жёнка, —
Так звал меня командир полка.
Я в ответ хохотала звонко,
Упираясь руками в бока.
Я не даром на Украине
В семье кузнеца родилась.
Кто полюбит меня, не кинет.
Я бросала. И много раз.
Как мы это любили! Как всё это тревожило маленькие наши души! Я ведь Зойку любил, и Алку любил из нашего двора, но больше всех любил Вовку Шканова, и ему был готов отдать и Зойку, и Алку. Потому что Вовка был самый достойный: он прыгал дальше всех и выше всех, и быстрее всех бегал.
Однажды Вовка поссорился с Джерри. Джерри — это был такой вполне уже взрослый блатной, хотя и роста небольшого, немногим повыше нас. Он жил где-то там, поближе к Садовой, уже за Дом Двадцать и за пивнушкой, что была тогда там.
Джерри явился в наш двор и высказал Вовке претензии. Мы, кто был во дворе, почтительно и напряжённо слушали. Дело было не в том, кто прав, а кто виноват. Вовка не мог быть правым, если правым считался тот, кто сильней. И Джерри пришёл совершить наказанье. Он говорил какую-то фразу и бил Вовку по лицу. Не сильно бил, но очень обидно. Фраза — пощёчина. Вовка отступал и утирался ладонью. Видеть это было невыносимо. И я знал, что нужно сделать. Нужно было — и, конечно, именно мне, кого Джерри всерьез не мог бы опасаться, — мне было нужно — я это знал — зайти со спины и чуть сбоку и кинуться, ухватив ненавистного Джерри за шею. Вместе с Вовкой мы бы так его завалили!
При этом я понимал, что нельзя было этого делать. И Вовка бы сам не одобрил бы мой скачок, потому что закон улицы был на стороне Джерри. Он вершил свой суд по праву сильного и потому правого. Тут нечего было сказать. Я это понимал и сейчас понимаю. И всё же, понимая всё это, я до сих пор стыжусь, что не кинулся тогда… И не прыгнýл к нему с утеса… Мне стыдно до сих пор и очень жаль.
Я всё же не был рождён настоящим черкесом. Во мне дремал Тазит. Что вскоре и подтвердилось.
Ко мне явилась новая книга. Тогда, кто помнит, выходили в свет громадные тома и среди них — Пушкин, где было, кажется, всё и даже яркие цветные картинки… Конечно же мама купила. И вот ко мне явился Пушкин. Что я тогда понимал? Да ничего не понимал! Я только ощущал какие-то калейдоскопы картин, цветов и звуков.
Вот, скажем, словопись, кружащая меня:
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары…
Падут ревнивые одежды,
На цареградские ковры…
Разве ж я понимал, что это — то самое, именно то, что и ляжем в сено за дверьми? Ничуть. Ляжем в сено — ведь это понятно, тут сказано прямо, и это волнует, но волнует иначе. А упадающие одежды, да ещё на какие-то цареградские ковры, — помилуйте! — здесь слышится только роскошество звуков! Вот звуком я и упивался.
Но оказалось, что в душу входили не только картины и звуки.
Как-то, во время дворовых наших игр, возник один противнейший пацан из Дома Шестнадцать. Он вреден был и мерзок так, что заслужить мог только страшное возмездие без всяких снисхождений. Тут не было сомнений. Я думал, как и все. И понимал, что надо его жестоко проучить. Он это заслужил. Только прежде необходимо было его изловить.
И мы изловили. Я, как и все, ликовал. Сейчас он получит своё. Его растянули на лавочке и так порешили: пусть каждый подходит и по очереди сверху вниз бьёт в его ненавистную гнусную рожу. Казнь началась. Всё было правильно. Но вот, что случилось. Когда подошла моя очередь, я понял, что я не могу. И я отошёл. Меня не поняли и удивились. Но я имел своё право и не утратил уважения к себе, поскольку ловил, как и все.
Не сразу я понял, что это было со мной. А было всё просто. Я уже прочитал «Тазита»:
…Убийца был
Один, изранен, безоружен…
Да нет, конечно же, не только между Голодным и Пушкиным я тогда метался. Война ведь только кончилась — как было обойтись без Симонова? Неважно, к которой именно войне принадлежал «Сын артиллериста» («Был у майора Деева…»). Да разве Симонов один? Один разве Симонов? А Твардовский? Василий-то Тёркин… Особенно глава «Поединок», любимая тогда.
Немец сунул так, что челюсть
Будто вправо подалась,
И тогда боец, не целясь,
Хряснул немцу промеж глаз…
Это было понятно.
Правда, дядя Володя, сам любивший «Тёркина», не очень одобрял моего увлечения «Поединком» (а я ведь всю главу уже знал наизусть).