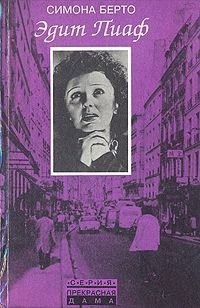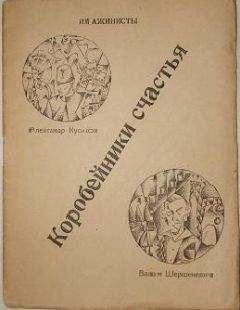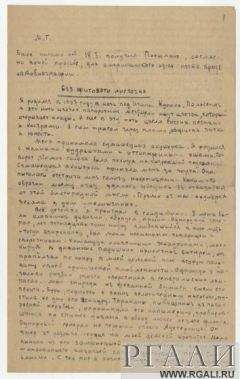Симона Берто - Эдит Пиаф

Обзор книги Симона Берто - Эдит Пиаф
Симона Берто
В память о тебе, моя Эдит, написала я эту книгу; здесь все честно, откровенно, здесь и смех твой и твои слезы.
Последние твои слова все еще звучат в моих ушах: «Не дури, Момона».
С тех пор я жду, что ты снова поведешь меня за руку, но, Боже, как это ожидание затянулось!
Я выражаю благодарность Марселле Рутье, которая любезно согласилась оказать мне помощь.
Симона Берто
«Жизнь её была так печальна, что рассказ о ней почти неправдоподобен — настолько он красив.»
Саша Гитри
Часть первая
Глава первая. Из Бельвиля в Верней
У моей сестры Эдит и у меня общий отец — Луи Гассион. Он был неплохой малый и большой любитель женщин — и надо сказать, их было у него немало. Всех своих отпрысков отец признать не мог, да и его партнерши далеко не всегда могли с уверенностью сказать, кто отец ребенка. Своих он насчитывал около двух десятков, но поди знай!.. Все это происходило в среде, где ни перед тем как сделать ребенка, ни после люди не ставят в известность чиновников мэрии. У меня, например, был еще один отец, тот, кто значился в документах,— Жан-Батист Берто. Но он дал мне не жизнь, а только свое имя. У моей матери — она вышла замуж в пятнадцать, а в шестнадцать уже развелась — было еще три дочери от разных отцов.
В какой-то период она жила в пригороде Фальгиер в одной гостинице с папашей Гассионом. Его мобилизовали. Я появилась на свет после его приезда в отпуск во время затишья на фронте в 1917 году. Их встреча не была случайной, они давно нравились друг другу. Однако это не помешало матери подцепить только что приехавшего в Париж восемнадцатилетнего парня Жана-Батиста Берто. И он, не задумываясь, повесил себе на шею двадцатилетнюю женщину, троих ее дочерей и меня впридачу, только находившуюся в проекте.
В день, когда ему исполнилось двадцать, Жан-Батист отбыл на фронт, имея на своем иждивении пятерых детей. Я не успела еще подрасти, как в доме оказалось уже девять душ, и не все были детьми папы Берто, как мы его называли. Как это ни покажется странным, они с матерью обожали друг друга. Это не мешало ей время от времени — хвост трубой — исчезать из дому на несколько дней. Уходила она с полным кошельком, возвращалась с пустым, зато с новым ребенком в животе.
По чистой случайности я родилась в Лионе, но уже через одиннадцать дней мать вернулась со мной в Париж. Она торговала цветами на улице Мар, напротив церкви Бельвиля.
Я почти не ходила в школу. Никому это не казалось нужным. Но все же изредка меня туда отправляли… Главным образом в начале учебного года, чтобы получить деньги на оплату электричества, и 1 января, когда выдавали обувь.
По мнению матери, это была единственная польза от школы. Что касается остального, она говорила: «Образование, как деньги, его нужно иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно». Поскольку в то время посещать школу было не так уж обязательно, моей школой стала улица. Здесь, может быть, не приобретают хороших манер, но зато очень быстро узнают, что такое жизнь.
Я часто ходила к папаше Гассиону в пригород Фальгиер. В эти дни я всегда радовалась, так как была уверена, что любима. Он находил, что я на него похожа. Миниатюрная, гибкая, как каучук, с большими темными глазами, я была вылитый отец! Он заставлял меня делать акробатические упражнения, угощал лимонадом со льдом и давал мелкие деньги.
Я очень любила отца.
Он называл меня Симоной без всяких уменьшительных вариантов — ярлыков, которые родителям полагается наклеивать на своих деток. Отец был рад мне. Он видел, что я расту, этого ему было достаточно, чтобы считать, что мать кормит меня и смотрит за мной. Правда, в один прекрасный момент расти я перестала, набрав всего полтора метра.
Отец был акробатом, не ярмарочным, не цирковым, не мюзик-холльным, а уличным. Его сценой был тротуар. Он чувствовал улицу, умел выбрать самый выгодный участок тротуара, никогда не работал где попало. Среди своих он слыл человеком бывалым, знающим хорошие места — словом, профессионалом. Его имя имело вес. Если я говорила: «Я дочка Гассиона», то могла рассчитывать на определенное уважение.
Когда на улице или на бульваре попадалась площадка, достаточная, чтобы на ней можно было удобно расположиться артисту и публике, и отец расстилал свой «ковер» (кусок ковровой ткани, вытертой до основы), люди знали: их ждет серьезное представление. Он начинал с того, что отпивал глоток вина прямо из горла. Это всегда нравилось публике: если ты пьешь перед работой, значит, собираешься хорошенько попотеть. Потом отец зазывал зрителей. Эдит, которая таскалась с ним шесть лет, с восьми до четырнадцати, очень хорошо его передразнивала.
Эдит вообще любила подражать. Она откашливалась, как отец, и вопила хриплым голосом:
«Дамы-господа, представление начинается. Что увидите — то увидите. Без обмана, без показухи. Артист работает для вас без сетки, без страховки, даже без опилок под ногами. Наберем сто су и начнем».
Тут кто-нибудь бросал на ковер десять су, другой — двадцать.
«Среди вас есть любители, есть ценители, есть настоящие знатоки. В вашу честь и для вашего удовольствия я исполню номер, равного которому нет в мире,— равновесие на больших пальцах. Великий Барнум, король цирка, сулил мне золотые горы, но я ему ответил: «Парня из Панама[1] не купишь!» Не правда ли, дамы-господа? «Заберите ваши деньги, я выбираю свободу!» Ну, раскошеливайтесь, еще немного, сейчас начинаем представление, от которого с ума сходят коронованные особы всех стран и остального мира. Даже Эдуард, король Англии, и принц Уэлльский, чтобы посмотреть мой номер, вышли однажды из своего дворца на улицу, как простые смертные. Перед искусством все равны!
Ну, смелее, синьоры, начинаем!»
И, надо сказать, деньги они тратили не зря, потому что предок был отличным акробатом.
Я едва научилась ходить, как он стал меня гнуть. Моей матери, которой на это было наплевать, он говорил: «Нужно дать Симоне в руки ремесло, в жизни пригодится…»
Я жила на улице. Мать возвращалась домой поздно или не возвращалась вовсе. Чем она занималась, я не знала, была слишком мала. Иногда она брала меня с собой в кабачок. Сама танцевала, а я спала, сидя на стуле. Иной раз она обо мне забывала, и я оказывалась в детском доме, позднее в исправительном. Государство всегда обо мне заботилось.