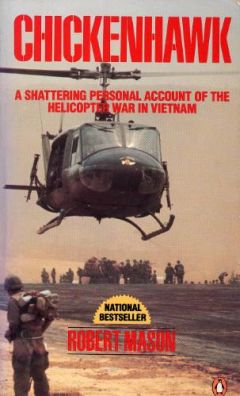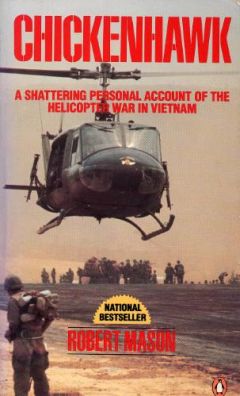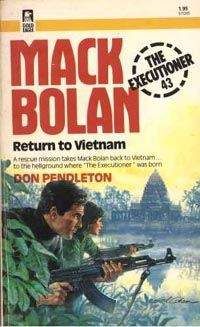Имбер Де Сент-Аман - Жозефина
Нет, нет, действительно, это больше не могущественная Венеция! «Венеция, супруга Адриатики и владычица морей, Венеция, которая давала императоров Константинополю, королей Кипру, принцев Далмации, Пелопоннесу, Криту; Венеция, которая унижала Цезаря и Германию; Венеция, гражданами которой считали за честь быть монархи; Венеция, которая, оставаясь республикой посреди феодальной Европы, служила опорой христианству; Венеция, разводящая львов, знатоками которых были дожи, а продавцами дворяне; Венеция, которая привозила из Греции покоренных гречанок или найденные шедевры; Венеция, которая поражала своими празднествами и своими искусствами, а также своими людьми; Венеция — одновременно и Коринф, и Афины, и Карфаген, украшающая свое чело ростральными колоннами и диадемами из цветов»[17]. Нет, нет, это больше не Венеция прошлого. О, как пала она, давая эти празднества в честь мадам Бонапарт! О, каким он стал, в высшей степени свободный город, который со дня своего основания в пятом веке всегда был независимым? Где его знаменитые бронзовые кони, которые пританцовывали под портиком Святого Марка? Отправлены в Париж как трофеи. А знаменитый лев, лев святого покровителя Венеции? Его постигла та же участь. Великий святой, чьи реликвии находятся в герцогской церкви, заложенной в начале девятого века как дар Юстиния Партисипацио, не защищает более город, который так доверял ему!
О, что стало с Кибелой[18] морей, с ее короной из горделивых башен, вырисовывавшихся в небесной дали и величественной, как владычица вод?.. «Юной она была в блеске славы, второй Тир. Победа дала имена ее детям, это была укротительница львов, знак отличия, который они принесли сквозь кровь и пламя на покоренные земли и моря. Имея множество рабов, она умела оставаться свободной и была заслоном Европы от оттоманского могущества. Призываю в свидетели этому тебя, о Канди, соперник Трои, и тебя, бессмертный залив, который видел сражение Лепанта! Ибо ни время, ни тирания не смогут стереть эти имена»[19]. С этим покончено, не увидеть больше свадьбы дожей и Адриатики! Где он, «Вучентор», знаменитая галера, подобная галере Клеопатры, огромная резная галера, все снасти которой были золотыми? Где время, когда окруженный своим двором дож, выходил из венецианского порта на «Вученторе» и триумфально двигался до пролива Лидо, где он бросал в море освященный перстень, произнося эту сакраментальную фразу: «Морская пучина, мы берем тебя в жены в знак владычества, неоспоримого и вечного».
Послы всех монархов, нунции[20] самого папы своим присутствием, казалось, признавали законность этого мистического брака. Что стало с «Вучентором»? Сначала думали отправить его как трофей во Францию на буксире каким-нибудь фрегатом. Но из опасения, как бы по дороге драгоценную галеру не захватили английские корабли, предпочли сжечь ее. А также сожгли ту «золотую книгу», в которую патриции и сами монархи с гордостью вносили свои имена. Венеция, вместо того чтобы веселиться, тебе следовало бы покрыться власяницей, и вместо того чтобы украшать себя цветами, впору сохранить их для могилы, куда будут скоро погребены твои независимость и слава! Кажутся насмешкой крики радости, которые ты испускаешь. Песни гондольеров должны были бы быть надгробным плачем. И председательствует на твоем празднике не дож, величественный и могущественный, а иностранка, креолка, которая должна была находить удивительным оказаться среди лагун как настоящая владычица!
Глава XVI
КАМПО-ФОРМИО
Дипломатические переговоры шли к концу. Нужно было их логически закончить или прервать. Несмотря на все его замечательные успехи, положение Бонапарта было критическим. Действуя вопреки инструкциям своего правительства, он мог добиться успеха, лишь навязывая свою волю. Со дня на день из Парижа мог приехать курьер, который одной-единственной депешей разрушил бы так искусно возведенную конструкцию. Директория была для него более опасной, чем Австрия, и главные трудности исходили из Люксембургского дворца.
Бонапарт пошел на двойной ультиматум: один — австрийскому правительству, другой — своему собственному. Предвидя согласие, которое необходимо было установить между ним и министром иностранных дел Талейраном, он в личных письмах, выказывая симпатию и доверие, подтолкнул великого деятеля прошлого к решениям, в принципе принятым им самим. В своих письмах к нему он ни во что не ставил итальянские силы и революционную пропаганду. Он говорил в них: «В моей армии нет итальянцев, не считая тысячи пятисот бездельников, подобранных на улицах различных городов. Они грабители и больше ни на что не годны… Вы воображаете, что свобода заставит совершить что-либо величественное вялый и суеверный народ… Сардинский король с батальоном и эскадроном сильнее, чем вся Цизальпийская[21] Италия. Таково положение вещей. Хоть и хорошо говорится во всех заявлениях и напечатанных речах — да так только в романах пишут. Мы совершили бы ошибку, случись нам применять внешнюю политику 1793 года, ибо мы исходим из противоположной политической концепции и у нас нет больше тех огромных масс, тех средств рекрутирования и того первого импульса энтузиазма, который был присущ тому времени». Желая пожертвовать Венецией, он писал: «Это вялый, изнеженный, трусливый народ, без земли и воды нам с ним нечего делать».
В то же время он получил от Директории распоряжение революционизировать полностью всю Италию. Это было сокрушительным ударом по его планам, потому что он хотел сохранить папское государство, Неаполитанское и Сардинское королевства и отдать Венецию Австрии, в то время как Директория желала не только спасти Венецианскую республику, но еще и трансформировать в республики все без исключения итальянские государства. Расхождение во взглядах полнейшее. Любой другой на месте Бонапарта не рискнул бы действовать вопреки букве и духу инструкций своего правительства. Но он уже принял решение считаться только со своим мнением. Не принимая в расчет Директорию, он следовал только своим намерениям, и 16 октября у него состоялась встреча с четырьмя австрийскими полномочными представителями, которая должна была стать решающей. Граф де Кобентцель заявил, что Австрия откажется от Майенса только в обмен на Мантую. Бонапарт же, наоборот, решительно настаивал, чтобы Мантуя оставалась в Цизальпийской республике. Это несогласие привело к бурной сцене. Придя в ярость, Бонапарт поднялся и, стукнув ногой об пол, вскричал: «Вы хотите войны? Хорошо же, она у вас будет!». И, схватив изумительный фарфоровый поднос, о котором Кобентцель не уставал говорить, что ему он был подарен Екатериной Великой, Бонапарт со всей силы швырнул его на пол, разбив на мелкие кусочки. «Смотрите, — воскликнул он, — такой станет ваша австрийская монархия, не пройдет и трех месяцев, обещаю вам!» И опрометью бросился вон из зала.