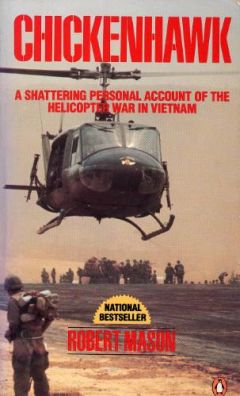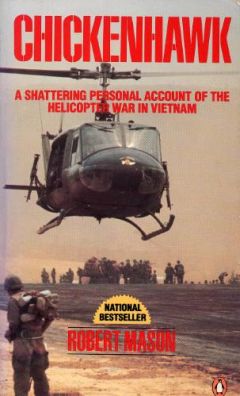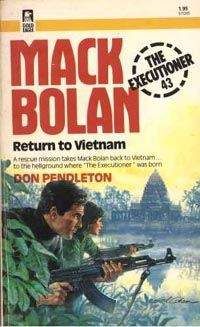Имбер Де Сент-Аман - Жозефина
Двумя другими полномочными представителями были генерал де Мерсфельд, благородный офицер, имевший незаурядный ум, вежливые манеры, и господин де Фиккельмонт, знакомый со всеми премудростями австрийской государственной канцелярии.
Переговоры проходили попеременно то у Бонапарта в штабе в Пассериано, то у полномочных представителей в Удине. Переговаривающиеся стороны обедали друг у друга. Развлечений было не так много, как в Монтебелло, но жизнь все же не была менее приятной. Герцог де Рагуз так вспоминал об этом периоде: «В моей памяти остались приятные воспоминания от пребывания в Пассериано. Там была особая атмосфера, которая не возникала с тех пор ни при каких обстоятельствах… Мы с пылом занимались телесными упражнениями для сохранения силы и ловкости, но и не пренебрегали духовной культурой и учебой. Монж и Вертолет все вечера посвящали обучению нас. Монж давал нам уроки описательной геометрии, науки, принципы которой он установил и использование которой так распространено».
Именно в Пассериано на встречу с Бонапартом прибыл генерал Десекс. Много дней они провели вместе и прониклись друг к другу симпатией. Герцог де Рагуз говорил: «Десекс вовсе не забыл моих предсказаний насчет Бонапарта, предсказаний, так быстро сбывшихся. Как только он увидел меня, он мне о них напомнил. Он высказал Бонапарту желание служить с ним в ближайшей кампании. К этому периоду относится первый египетский проект. Генерал Бонапарт охотно говорил об этой древней земле. Его память хранила множество исторических сведений, и он упивался идеями более или менее исполнимых проектов по Востоку».
Адъютанты Бонапарта наслаждались приятным пребыванием в Пассериано. Но генерал здесь занимался серьезными делами. Он был должностным лицом, становившимся все более значительным. Он рассматривал как знак недоверия высылку в Пассериано Бототта, личного секретаря Барраса. За столом в присутствии двадцати или тридцати человек он без уверток обвинял правительство в несправедливости и неблагодарности. Он подозревал директоров в желании противопоставить ему как соперника Ожеро, и, тонко борясь с противниками, без конца повторял, что его здоровье и моральный дух ослаблены, что ему нужно несколько лет отдыха, что он не может больше ездить верхом, но несмотря ни на что его заботит лишь процветание и свобода его отечества. Что бы он делал, если бы Директория поймала его на слове?
В отношении дипломатии идеи Бонапарта шли вразрез с идеями правительства. Он был убежден, что установить мир можно лишь пожертвовав Венецию Австрии Со своей стороны, Директория, считая бесчестием для себя отдачу республики монарху, хотела не спасти венецианскую независимость, а установить республиканский строй на всем полуострове, уничтожить светскую власть папы, разрушить монархии Пьемонта и Неаполя.
Бонапарт не разделял таких радикальных взглядов на внешнюю политику. Он знал, что ему было необходимо духовенство, чтобы иметь возможность достичь высшей власти, а после того как он столь часто выступал против тиранов, он считал, что обязан быть предупредительным по отношению к монархам, которые через несколько лет должны будут стать ему братьями. Линия поведения, которой он следовал в Пассериано, исходила из этих соображений. Проницательный и прозорливый наблюдатель уже мог разглядеть в подчиненном Директории будущего первого консула и императора. По своему воспитанию, по вкусам, по браку, по идеям и принципам он одновременно принадлежал и к старому обществу и к революции. Он должен был взять и от того и от другого все то, что могло быть ему полезно в удовлетворении его честолюбия и реализации его мечты.
«Я проделал великолепную кампанию, — сказал он однажды мадам де Ремюза, рассуждая об этом периоде своей жизни, — я стал личностью для Европы. Своими повседневными делами я поддерживал революционную систему и в то же время я тайно поддерживал эмигрантов и позволил им питать некоторые надежды. Очень легко ввести в заблуждение этих людей, потому что они всегда исходят не из того, что есть, а из того, что они хотят, чтобы было. Мне делали великолепные предложения, надеясь, что я последую примеру генерала Монка. В своем цветистом и неуверенном стиле мне даже писал претендент на престол. Проще было покорить папу, отказавшись идти на
Рим, нежели я сжег бы его столицу. Наконец, я стал влиятельным и опасным, и Директория, которую я беспокоил, не могла в то же время выдвинуть никаких обвинений против меня».
Никогда не было более изобретательным и более утонченным притворство, которое являлось одной из главных черт характера Бонапарта. Он писал Директории: «Мое душевное состояние требует, чтобы я растворился в гуще масс. Слишком долго высшая власть была доверена моим рукам. При всех обстоятельствах я использовал ее во имя благополучия моей отчизны. Тем хуже для тех, кто не верит в добродетель и кто мог бы поставить под сомнение мою добродетель. Мое вознаграждение — в моей совести и в памяти потомков». 1 октября 1797 года он написал Талейрану: «Все, что я делаю, все соглашения, которые я подписываю в этот момент, — это последняя услуга, которую я мог бы оказать моему отечеству. Мое здоровье полностью расстроено. Быть здоровым необходимо, ничем не заменишь здоровье на войне. Несомненно, в ответ на мою письменную просьбу об отставке, которую я отправил неделю назад, правительство создаст комиссию из общественных деятелей для организации государственного устройства Италии, назначит новых полномочных представителей для продолжения или возобновления переговоров, наконец, выберет генерала, которому оно доверит командование армией, ибо я не знаю никого, кто смог бы заменить меня в этих трех миссиях, равно интересных и сложных».
Директория была завистлива и подозрительна; у нее было предчувствие, что она найдет в Бонапарте владыку. И она соперничала с ним в притворстве и дружески протестовала против его отставки, но в этих протестах не было ничего искреннего. Секретарь Барраса Бототт, возвратившись из Пассериано в Париж, написал Бонапарту, что последние минуты в Пассериано глубоко огорчили его, что тяжелые мысли преследовали его вплоть до дверей Директории, но эти мысли рассеялись под действием чувств восхищения и теплоты, которые он обнаружил у директоров по отношению к покорителю Италии. Несмотря на явные демонстрации обоюдного уважения, что было лишь политической стратегией и с одной и с другой стороны, антагонизм между Бонапартом и Баррасом, хоть и уменьшился в результате скрытого влияния Жозефины, но стал уже заметен проницательному взгляду и должен был окончиться переворотом 18 брюмера.