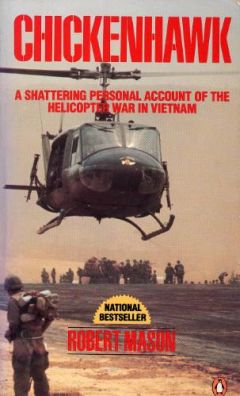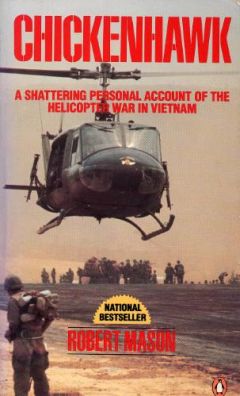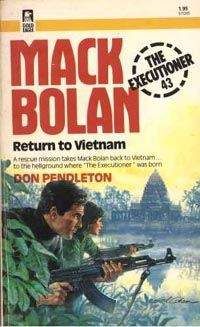Имбер Де Сент-Аман - Жозефина
Директория не замедлила раскрыть эту двойную игру. Но она посчитала, что еще нуждается в Бонапарте, армия которого была противовесом перед лицом все более угрожающей реакции, и она не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы неоправданно поссориться с покорителем Италии. Еще меньше они доверяли Лавалетту, чьи поступки, визиты, письма, речи были под пристальным наблюдением. Антагонизм Бонапарта и Барраса, хоть и латентный, но прозорливому наблюдателю был уже заметен. Придя к власти, Директория одержала победу, которая в зародыше несла поражение. День 18 фрюктидора должен был породить день 18 брюмера.
Выступавшая очень энергично за Республику и против реакционеров, мадам де Сталь, чей салон тогда был очень влиятельным, принимала в нем поочередно и Ожеро и Лавалетта. Она говорила: «При всем том, что Бонапарт в своих заявлениях постоянно говорил о Республике, внимательные люди догадывались, что она в его глазах была средством, а не целью. Целью для него были все вещи и все люди. Распространился слух, будто бы он хотел стать королем Ломбардии. Однажды я встретила прибывшего из Италии генерала Ожеро, которого считали тогда, и, по моему мнению, обоснованно, ревностным республиканцем. Я спросила его, правда ли, что генерал Бонапарт помышляет сделать себя королем. «Конечно же, нет, — ответил он, — этот молодой человек слишком хорошо воспитан для этого». Этот простой ответ полностью соответствовал идеям того времени. Истинные республиканцы посчитали бы, что человек деградирует, если бы он, каким бы достойным ни был, захотел воспользоваться революцией с выгодой для себя. Почему это мнение получило распространение у французов?»[15]
В этот период мадам де Сталь создала настоящий культ Бонапарта. Лавалетт сидел рядом с ней на обеде у Талейрана, министра иностранных дел. Он рассказывал: «Во время всего обеда она не переставая вдохновенно и самозабвенно восхваляла покорителя Италии. Выйдя из-за стола, общество направилось в кабинет, посмотреть на портрет героя, и когда я посторонился, чтобы пропустить ее вперед, она остановилась и сказала: «Как, разве я осмелюсь пройти раньше адъютанта Бонапарта?» Мое смущение было таким явным, что она воспользовалась этим и рассмешила всех, вплоть до хозяина дома. Я пришел к ней на следующий день, она приняла меня настолько хорошо, что я приходил туда часто».
У мадам де Сталь тогда было два предмета страсти: Бонапарт и Республика. Более чем кто-либо, мадам де Сталь способствовала фрюктидорскому государственному перевороту. Еще Лавалетт сказал: «Я продолжаю думать, что она не предвидела жестоких последствий для партии побежденных, а я никогда не видел столько горячности в преследовании их». Она сама была поражена результатом, к которому привели ее советы. Она рассказывала, что вечером 17 фрюктидора было так страшно, что большинство знакомых покидали свои дома из страха быть там арестованными. Несмотря на демонстрацию своих республиканских взглядов, и она все же испытывала страх из-за своих отношений с роялистами. Один из ее друзей нашел ей убежище в маленькой комнате с окном на мост Людовика XVI. Она провела там ночь, видя на улице только солдат; все граждане попрятались по домам. Стояла полная тишина, лишь слышно было, как скрежещут по мостовой пушки, стягиваемые к Бурбонскому дворцу, где собрался законодательный корпус.
Утром стало известно, что генерал Ожеро повел свои батальоны в Совет Пятисот и арестовал там реакционных депутатов. Два директора и пятьдесят один представитель Совета Пятисот изгнаны, депортированы и перевезены в железных клетках через всю трепещущую Францию на губительные пляжи Кайенны. Также депортированы владельцы, авторы и редакторы сорока одной газеты, признаны недействительными выборы в сорока восьми департаментах, заткнут рот прессе, и она молчит, к новому изгнанию принуждены священники и эмигранты — таковы были результаты 18 фрюктидора. Это был триумф милитаризма. Эдгар Квинет сказал: «Исчезло всякое уважение к закону. Виден был и действовал только клинок… После того как победили солдаты, оставалось только короновать солдата».
Именно Бонапарт должен был воспользоваться результатами 18 фрюктидора, но перед парижскими роялистами, которых он обихаживал ввиду своего будущего, он не хотел выглядеть так, будто он одобрял репрессии этого дня, который должен был принести ему пользу. Исходя из того, что ему писал Лавалетт, он замарал бы свою славу, выказав поддержку незаконному насилию над гражданскими представительствами и гражданами, достойными уважения за свои добродетели. Из этих соображений Бонапарт в дни, предшествовавшие государственному перевороту, в своей переписке с Директорией воздерживался от высказываний по поводу внутренней ситуации во Франции. Вечер 17 фрюктидора Лавалетт провел в Люксембургском дворце у Барраса. По плохо скрываемому оживлению приближенных директора он догадался о том, что должно было произойти и ретировался пораньше, решив не показываться на следующий день, потому что не хотел, чтобы его присутствие позволило предположить, что Бонапарт одобрял совершаемые насилия.
Однако через день Лавалетт пошел к Баррасу. С угрожающим видом директор сказал ему: «Вы предали Республику и своего генерала. Вот уже шесть недель правительство не получает от него личных писем; нам известны ваши мнения о том, что происходит, и мы не сомневаемся, что вы представляли наше поведение в самых одиозных тонах. Заявляю вам, что вчера вечером Директория обсуждала вопрос, не должны ли вы разделить участь заговорщиков, которые находятся сейчас на пути в Гавану. Благодаря нашему отношению к Бонапарту вы свободны, но я только что отправил своего секретаря объяснить ему, что произошло, и ваше поведение».
Лавалетт хладнокровно ответил: «Вы заблуждаетесь, я никого не предал. День 18 фрюктидора — катастрофа, и меня никогда не убедят, что правительство будто бы имело право наказывать представителей народа без суда и пренебрегая всеми законами. Ничего другого я не писал все шесть недель, и если вы хотите в этом убедиться, вот ключ от моего секретера, прикажите взять мои бумаги».
Еще несколько дней Лавалетт оставался в Париже, не желая, чтобы его слишком поспешный отъезд мог быть, приписан страху. Прежде чем пуститься в путь, он зашел к Ожеро взять у него поручения. Генерал довольно легко говорил ему о Бонапарте, а о дне 18 фрюктидора с большим воодушевлением, чем он говорил раньше о сражении при Арколе. «Знаете ли вы, — сказал он ему, — что вас нужно было бы расстрелять за ваше поведение? Но будьте спокойны и рассчитывайте на меня». Улыбнувшись, Лавалетт поблагодарил его, но понял, что бесполезно было бы испытывать его расположение и на следующий же день отправился в Италию. Он покидал Париж 1 вандемьера, в момент, когда Директория, министры и все представители власти направлялись на Марсово поле, чтобы там отпраздновать первый день VI года Республики.