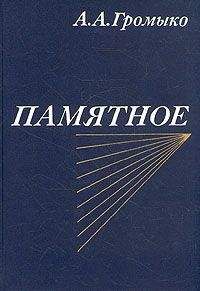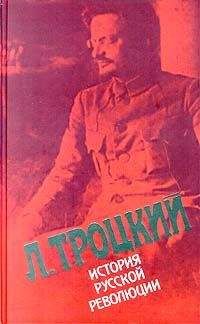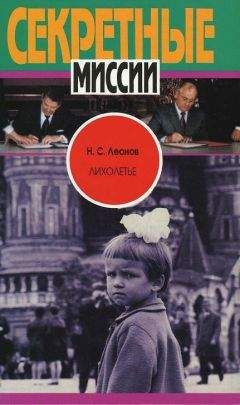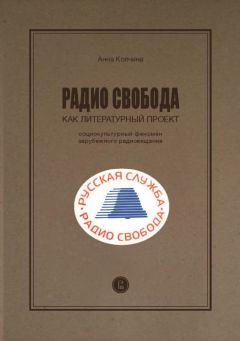Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Хорошим аппетитом объясняла бабушка Клара и выдающиеся умственные способности царя Соломона. И в этой истории мне не все было до конца ясно. Во-первых, откуда он взялся? Я был неплохо осведомлен о царе Салтане, который, надо думать, тоже пожрать был не дурак. Вспоминалась бабушкина политинформация (из предыдущих кормежек) о царе Николае, который был еще хуже фараона, потому что при нем голодали не только евреи, но и русские, и которого в 1917 году «голодные и рабы», сговорившись, сбросили с трона (разумеется, прервав голодовку и хорошо подкрепившись накануне), благодаря чему бабушка и ее братья «вышли в люди». Да и потом — что это за имя для ЦАРЯ — Соломон? Я знал только одного Соломона — родного брата дедушки Сему Болотина из Воронежа, которого в разгар ежовщины (это было похоже на поножовщину, и потому было страшно) арестовали за политический анекдот, безобидно обыгрывавший фамилии вождей. Дядя Сема совсем не был похож на царя, потому что был лысый, без бороды и усов и работал парикмахером. Злополучный анекдот он рассказал старому клиенту, от которого и получил на чай 5 лет лагерей.
Слипшаяся масса за щекой росла, уплотнялась, мешала думать и грозила извержением. К десерту у бабушки был заготовлен урок новейшей истории с использованием наглядных пособий. Благодаря пособиям урок усваивался не хуже манной каши и куриных котлет. Из заветного чемодана она извлекала наклеенный на коричневый картон групповой снимок. И среди них — бабушка и двое из братьев. Это когда бабушка определилась на харьковскую щеточную фабрику имени Клары Цеткин. Кто такая Клара Цеткин и в чем ее заслуги перед щеточным производством, я, конечно, не знал. Но это сочетание легко удержал в памяти — наверное потому, что и бабушку все звали Кларой, и даже Кларой Захаровной, хотя по паспорту она была никакая не Клара, а Рива Зельмановна. С фотографии участников первомайского митинга на этой самой фабрике на меня смотрела сотня вирированных глаз тех самых людей, в которые, должно быть, вышла бабушка перед тем, как уселась на фото в третьем ряду, первой слева. Эти фото трудовых коллективов после революции пришли на смену статичным ликам однополчан, выпускников гимназий и семейных кланов. 50 ударников труда, застывших в испуге перед стреноженным истуканом. 50 бабушек и дедушек из года в год вынимают по тому или иному случаю одну и ту же фотографию и докучают нетерпеливым и равнодушным внукам воспоминаниями. Сегодня я и сам могу часами рассматривать старые фото с до боли знакомыми и даже малознакомыми лицами. В них больше правды, чем в самом скрупулезном описании. От объектива можно утаить неизреченные мысли людей, но не душу эпохи, ее синхронический срез. Немцы нашли удачное определение для простейшей манипуляции с изображением — Zeitluppe, «лупа времени». Замерзшее время нельзя оттаять, хотя бы потому, что оно не обладает, подобно снежинке, геометрической конструкцией. Зато оно оживает в интуитивно-чувственном контексте. Ледяные цветы могут стать живыми, чтобы украсить если не подвенечный наряд, то истлевший саван.
Помню, в раннем детстве меня сжигало любопытство: хоть бы разок нырнуть под черную паранджу фотографа. Однажды мне было это позволено, и… о, ужас! Я увидел мир вверх ногами. И никто из взрослых не мог вразумительно объяснить ребенку эту метаморфозу.
Бабушка бережно проводила ребром ладони по изображению, как бы стирая наслоения времени, всматривалась в лица, что-то припоминая. В некоторых семьях старые фотографии помогали исправлять ошибки молодости, сводить счеты с разлучницами, бывшими мужьями, предавшими друзьями — с помощью ножниц, сопя и чертыхаясь, приводили в исполнение смертные приговоры, аккуратно вылущивая ненавистные компрометирующие уши, носы, бороды. Эх, «знать бы загодя, кого сторониться», с кем улыбаться!.. Но поздно: птичка вылетела, этакий попка-дурак с безвкусным опереньем и зажатым в клюве жребием. «Редактирование» фото- и кинокадров — занятие тоже небезопасное. Писатель Вадим Перельмутер раскопал поучительный факт из истории кино. Хроникеры снимали траурное шествие похорон Жданова. Во время проявки часть ленты оказалась запорченной, что по тем временам не сулило ничего хорошего. Положение спас опытный оператор, который вместо погибших кадров «пришил» фрагменты более благополучных похорон Калинина двухлетней давности. Ритуал-то расписан по нотам. Находчивость оператора высоко оценили коллеги, не заметив, что на некоторых участках между Колонным залом и мавзолеем Жданов несет… собственный гроб.
Вообще фотографии с белыми пузырьками воздуха, бесстыдно ретушированные до состояния акварельной размытости, с заломаными углами и с расслоенным до марлевого исподнего картоном были важнейшими домашними реликвиями. Но меня они в тот момент мало занимали. Судьбой этих незнакомых мне людей в темной, неглаженой одежде я заинтересовался, когда не осталось почти никого, кто мог бы удовлетворить мое вдруг проснувшееся любопытство. Но кое-что все-таки выведать удалось.
КРИВОНОСЫ
Каким образом Кривоносы — самое многочисленное и разветвленное крыло моих сродников со стороны маминой мамы — стали обладателями фамилии древнего казацкого рода? Случилось ли это во времена гетмана Ивана Мазепы, когда казацкие реестры обогатились несколькими еврейскими семьями, которые незамедлительно породнились с украинской элитой, или того раннее, скажем, в эпоху палеолита, когда, по заверениям краеведов, была заселена Черкащина, — можно только гадать. Сотни лет ходит легенда, что даже первый польский король был евреем. А польская шляхта так просто пестрела еврейскими именами. Но почему именно Кривонос? Разве мало было Боруховичей, Марковичей, Герциков и прочих Крижановських? Почему именно тень охочего до еврейской крови меджибожского полковника (между прочим, шотландца по происхождению) нависла над моей родней?
Мои Кривоносы отличались завидной дружбой между собой. О распрях внутри клана слышать не доводилось. Всех связывала крайняя нужда. Без взаимной выручки было не выжить. Потому и жались друг к дружке, жили в одном дворе, ели из общего котла. Мама не раз рассказывала, как в голодные годы на Украине ей и другим детям, родным, двоюродным, троюродным, приходилось носить одну пару башмаков в три смены, по очереди. Иначе не в чем было бы дойти до школы.
Кривоносы в Екатеринославе (сидят: Зельман и Гитл, в центре композиции — Моисей; стоят: слева — Лева с женой, справа — Рива с мужем Аврум-Янкелем; возлегает Матвей. 1913 г.
О прапрадеде известно только, что он был из кантонистов, отслужил 25 лет, вернулся и наплодил 12 душ детей. Служба царю и отечеству принесла ему и четырем поколениям его потомства право селиться в губернских городах. Протекай жизнь в неизменном русле, в аккурат на мне эта царская милость и закончилась бы. Но семью вполне устраивала жизнь в захолустном местечке Черкассы. Брат кантониста был раввином. Бабушка вспоминала, что когда жандарм явился, чтобы записать его в армию, он выпрямился:
— Я религиозный человек — лучше умереть, чем служить кому-либо, кроме Бога. И сиганул в окно, но к счастью, уцелел. Рекрутчики отступили — дескать, если Бог сохранил тебе жизнь, то служи ему и дальше. В раньшее время люди были сентиментальны и богобоязненны. В семье бабушки военная служба выпала главным образом двум братьям — Давиду и Леве. Особенно досталось Давиду. Он был самым старшим (род. в 1882 году) и самым беспокойным. Видать, докипало в крови казацкое прошлое.
Екатеринослав, где обосновалась семья Кривоносов, в конце 19 века оказался стремительно растущим индустриальным центром империи. Основная причина экономического бума была связана с тем, что к его днепровским пристаням вплотную подошла железная дорога, соединившая Днепр с Донбассом, Приазовьем и другими сырьевыми районами. В городе стали расти домны, кирпичные заводы и пирамиды строительного леса. Толпы рабочих стекались сюда не только из близлежащих губерний, но и из Москвы и даже Петербурга. И везли они с собой вместе с профессиональными навыками и идеи революционного подполья, а если внимательней порыться в их пожитках, то и прокламации социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов-махаевцев. Всем этим нестройным оркестром дирижировали ссыльные студенты и бунтовщики, которых столичная охранка, как козлов в огород, сплавляла под «гласный надзор полиции» в промышленные города южных и восточных окраин империи. Благодаря им рабочее движение в Екатеринославе быстро набирало силу, а в 1903 году ему уже подполье стало тесным, и страсти вылились на улицу. Население замешивалось все гуще, и все заметней в нем становилась бесправная еврейская беднота. Еще вчера заброшенные и никому не нужные рахитичные дети, сегодня находили работу на городских предприятиях или становились ремесленниками, а отдельным счастливчикам даже удавалось начать образование. Тягу евреев к учебе виртуозно использовали социал-демократы. Кружки по изучению русской культуры, которым неведома была пресловутая процентная норма, становились центрами политической пропаганды. Давид и Лева не были исключением. Они стали реже бывать дома, брались за любую работу, мелькали на «бирже». Биржей называли отрезок городского бульвара, служивший для социально активной молодежи Гайд-парком, диспетчерским пультом кружковых встреч, обменным пунктом нелегальной литературы, межпартийным клубом. Филерам и жандармам, пытавшимся пресечь эти сборища, пришлось отступить или, по крайней мере, сменить тактику. «Мы что, не имеем права после работы погулять по бульвару?» — искренне возмущались будущие революционеры. Согнанные с одного места, они тут же возникали на другом участке «биржи», сводя на нет работу озабоченной полиции, выдувающей легкие в свои свистки.