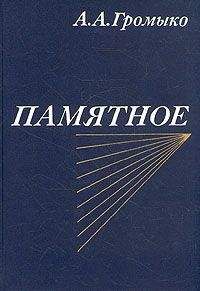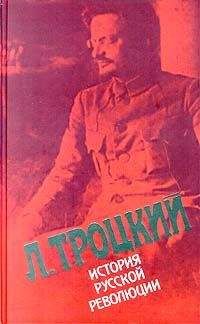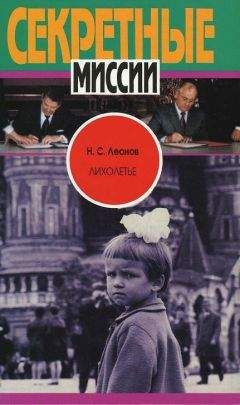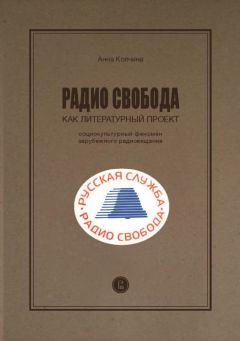Господи, напугай, но не наказывай! - Махлис Леонид Семенович
Пасха уходила, не оставляя в детской душе ничего, кроме белого конфетти от хрустящей мацы, перфорированной раскройным колесом. Но один элемент пасхального седера я был вынужден практиковать и в будние дни. Самый надежный способ избежать конфликта при моей кормежке — это продемонстрировать пустую тарелку. Ненавистные продукты приходилось рассовывать по укромным уголкам дома во время коротких отлучек тетушки из столовой. Вареная куриная пулка находила свое временное пристанище в горшке с фикусом, бульон — в остывающих углях кафельной печи, творог улетал в форточку на радость соседским котам… «Пусть всяк, кто страдает от голода, придет и поест с нами…». После «еды» начинались поиски афикомана[2] для более основательного захоронения. В этом процессе тоже требовалась нешуточная сноровка, ибо в любую минуту могла замаячить на горизонте бабушка в поиске очков. Это значит, что на подмогу ей придет дочка с готовым на случай заклинанием:
— Чертик, чертик, поиграйся и отдай.
И тогда… Но работал я чисто, и уловка по сей день осталась нераскрытой.
А смысл еврейских праздников дойдет до меня много позже. И если вы попросите меня сегодня в нескольких словах описать суть любого из них, то я предложу вам универсальный синопсис:
1. Они хотели нас убить.
2. У них ничего не вышло.
3. Кушайте, дорогие гости.
ЛУПА ВРЕМЕНИ
В Судный день бабушка постилась. Раз в год 20 апреля она зажигала свечу в память сына Зямы, погибшего при штурме Берлина. Где-то зеленела его безымянная могила. Память о нем — самая страшная травма для нее и других старших. Ей очень хотелось, чтобы я постоянно выслушивал рассказы о своем дяде, которым я должен гордиться, потому что он меня защищал. Я не понимал, почему надо было защищать меня, если меня тогда еще не было, и думал о том, что такой дядя мне пригодился бы больше сегодня, чтобы защитить меня от мальчишек, которые цепляются по дороге в школу.
Бабушка каждый Божий день вынимала из тумбочки мятую бумажку и читала мне, чтобы я не забывал: «…Ваш сын Болотин Зяма Абрамович, гвардии рядовой… смертью храбрых». Ей никак не удавалось выговорить название немецкого городка, где лежал в братской могиле ее единственный сын. И зачем его выговаривать? Для чего трудиться? Все равно никто никогда не пустит ее туда. Когда начали разбирать на сувениры Берлинскую стену, я первым делом бросился разыскивать могилу. Оказалось, что в похоронке название городка было искажено. После смерти мамы ко мне перейдет самая дорогая семейная реликвия — последнее письмо дяди Зямы с фронта:
«Мамочка, пишу тебе автобиографию своей фронтовой жизни. (Кратко). Как тебе известно, я под Сталинградом был связным двух аэросанных батальонов. На Волге было очень холодно. Приходилось жить в поле. Позже я был легко ранен. После ранения попал в другую часть, где за полтора месяца изучил трофейную машину-семитонку и стал выполнять для фронта перевозку. Позже, в мае-месяце 1943 года под Орлом был ранен в голову. Тебе, наверное, известно, что после ранения я попал в авиачасть, что прослужил полтора года пиромехаником до заболевания тифом на передовой левее Жлобина, еще был в боях под Севском (мамочка, пиромеханик всегда должен быть на передовой), что приходилось драться в бою. И после госпиталя я попал в пехоту. Изучал тактику боя. Всего я убил немцев 6. 2 офицеров и 2 шпионов привел в комендатуру, а 6 солдат убил во время боя и еще думаю за твои слезы матери убить много немцев.
Мамочка, все я не могу описать за всю войну. Если увидимся, то я расскажу тебе лично. Это письмо храни. Храни.»
Зяма Болотин, 1944 г.
Сегодня я храню это письмо, выполняя завет 23-летнего фронтовика, инвалида, единственного сына в семье, обманувшего медкомиссию, чтобы взять в руки оружие. Клара так и не узнала обещанных подробностей фронтовой жизни сына. Эта жизнь оборвалась в первый день штурма Берлина — 20 апреля 1945 года в местечке Херценфельде, в 60 километрах от Берлина, за три недели до победы и за 4 месяца до моего рождения.
Иногда в разговоре с дочкой она переходила на идиш. Это означало, что мне не следует знать, о чем они говорят. Но ситуации повторялись, и я начал понимать отдельные фразы. Смысл сказанного доходил до меня благодаря реакции т. Мани. Например, строго следившая за моей кормежкой бабушка выходил на кухню и докладывала: «эр зицт» — «он сидит». Это означало, что я не проявляю должного энтузиазма по поводу содержимого моей тарелки и просто провожу время за столом, разглядывая узоры на стене. Бабушка считала своим долгом осуществлять наружное наблюдение за моим поведением. В конце концов, она была единственным коммунистом в доме и весьма гордилась своим партийным прошлым. Оно, это прошлое, началось еще в судьбоносном семнадцатом году, когда в революционном порыве брат бабушки Моисей примкнул к большевикам, а она — к своему брату. А закончилось в не менее судьбоносном пятьдесят шестом. Выражение «выйти из партии» в условиях развитого социализма звучит столь же нелепо, как выйти из жизни. Из партии можно вылететь. Из партии могут выгнать, вышвырнуть, вышибить. Вылету или вышибанию должен был предшествовать аморальный поступок, уголовное преступление, политическая кампания, чья-то злая воля, провокация. А она вышла. Собственными ногами. Правда, незадолго до этого дома стали замечать неадекватное поведение бабушки. Все чаще и чаще ее заставали за одним и тем же занятием, когда она беззвучно перебирала сыновьи письма и фотографии. Тетя Маня при этом отворачивалась и поминутно сморкалась. Память неведомого мне дяди Зямы, умудрившегося погибнуть, когда война практически закончилась, и раньше витала над нашими головами. Но бабушка становилась рассеянной, потом забывчивой, потом… она выкинула такое, от чего вся московско-харьковско-львовская родня пришла в ужас и оцепенела в ожидании самых трагических последствий. В один прекрасный день Клара Захаровна, не сказав никому ни слова, вышла из квартиры и надолго исчезла. Начали беспокоиться. Но вдруг старушка вернулась и объявила, что была в райкоме и сдала партбилет. Вместе с партбилетом она рассталась и с правом на персональную пенсию, до которой оставались считанные недели. Неслыханное по тем временам деяние совпало с пресловутым ХХ съездом, осудившим сталинские преступления. Не знаю, о чем при этом думали партийные чиновники, но в доме решили, что мозги Клары Захаровны окончательно сбились с курса. Другого объяснения и быть не могло. Лишь однажды на тревожный вопрос мамы бабушка не без лукавства объяснила — «ну какой теперь от меня прок партии, доченька?». Поступок бабушки до конца ее жизни тщательно скрывался от посторонних. Но он не прошел бесследно. Наступило время — и о нем пришлось вспомнить, но это — уже в другой жизни, другой эпохе, другой главе.
Рива Зельмановна Кривонос с дочерьми, 1935 г.
Бабушка в моих глазах грешила крупным недостатком — она не знала русских сказок. Вот и приходилось заговаривать мне зубы при кормежке историями, идеологически невыдержанными:
— Почему евреи в Египте смогли убежать от фараона? Потому что когда они были рабами, они хорошо кушали и были такими сильными, что строили огромные пирамиды и целые города.
Я слабо сопротивлялся ее доводам. Что-то здесь было не то. Из моих книжек я знал, что рабы не могут хорошо кушать. Рабы должны голодать. На то они и рабы. А если они хорошо кушали, то на кой им надо было от фараона бегать? Жили бы себе. Кушали бы… Пока я боролся с противоречиями, бабушка придвигала ложку к моему рту, который кое-как раздвигался, подчиняясь ее воле, как коварные воды Красного моря подчинялись взмаху Моисеева посоха, чтобы затем сомкнуться над головами врагов рода человеческого. Я прижимал к щеке очередную дозу ненавистного творога, а бабушка испытывала законную гордость, известную только Моисею, обманувшему бдительность жестокого фараона.