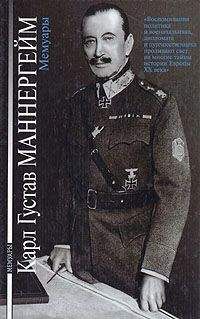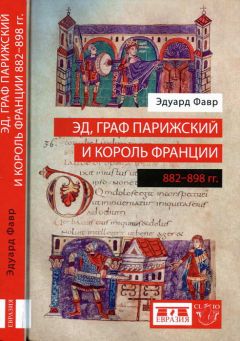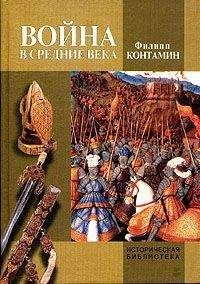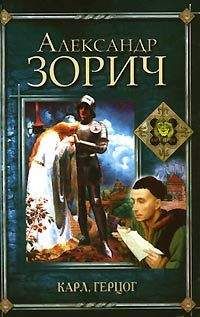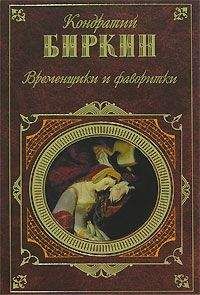Карл VII. Жизнь и политика (ЛП) - Контамин Филипп
Пребывание Карла VII в Лиможе было отмечено многочисленными актами благочестия, в частности, в аббатстве Святого Марциала с речью выступил лейтенант короля и городской консул Мартьяль Бермунде, который, вполне естественно, подробно остановился на оскудении Лиможа и опустошениях, которые мародеры причиняли окрестностям. Король выслушал это "охотно и благосклонно" и пообещал в скором времени навести порядок. После этого королю было предложено посмотреть на соревнования по стрельбе из арбалета (устроители должно быть отлично знали, что это было одним из его любимых занятий, как рассказывает Анри Боде [795]). Все это было очень весело, но конце-концов наступило время, когда королевский Совет должен был приступить к делу: добыче денег. В итоге, это было собрано 3.000 экю с города и 20.000 с округа. Автор повествования утверждает, что Мартьяль Бермунде сообщил ему, что королевский визит обошелся городу в почти 7.000 экю в виде подарков и других расходов. Зато король даровал аббатству Святого Марциала некоторые привилегии, а аббат принес ему простой оммаж за все, что он имел от короны и получил соответствующую грамоту скрепленную большой печатью белого воска. Другими словами, ловкий аббат умудрился избежать тесного оммажа, что было бы более естественным, и король это признал. Автор перечисляет главных придворных, окружавших Карла VII, которых всех нужно было разместить в соответствии с из статусом: архиепископ Тулузы, семь епископов, включая епископа Парижа и Кастра, Жерар Маше, духовник короля; из великих сеньоров выделяются четыре имени: Карл, герцог Бурбонский и Овернский, в то время занимавший должность губернатора Гиени; Кар Анжуйский, брат королевы; маршал де Лафайет, остановившийся в доме Мартьяля Бермунде, другом которого долгое время он был; и, наконец, Орлеанский бастард, благородный рыцарь, которого король не без причины очень любил, ибо, тот был благоразумен и мог хорошо управлять делами. Тот же Бермунде передал рассказчику, переписанный на французском языке одним клириком, текст Романа о Фовеле (Roman de Fauvel) который рассказчик скопировал в конце своей рукописи, добавив, что упомянутый клирик также преподнес королю carmen (поэму) на латыни, но рассказчик, к своему большому сожалению, не смог получить ее копию [796].
Согласно существовавшей традиции, любой первый королевский въезд в город должен был включать следующие элементы: официальное подтверждение покорности или подчинения города и его органов власти, максимально теплый прием (радостные возгласы, костры на улицах, участие детей), вручение приветственных подарков, представление назидательных, поучительных и развлекательных зрелищ ("мистерий"), проявление набожности в различной форме (пение гимнов, преподнесение священных реликвий), красноречивое изложение главой городской общины неизбежных жалоб, на которые король должен был благосклонно ответить, раздача последним милостей и привилегий. Также необходимо было дать понять народу, что прибытие короля неизбежно принесет изобилие, поэтому, например, на улицах устанавливались фонтаны, из которых в изобилии лилось вино или гипокрас (сладкое вино, настоянное на корице и гвоздике). Так было в Париже в 1437 году [797]. Но все это имело оборотную сторону, поскольку было дорого как для отдельных людей, так и для городской общины. Тем не менее, явление короля народу приводило к установлению эмоциональной связи между монархом и его подданными.
Последующие королевские визиты также становились поводом для выдвижения требований со стороны городов. Карл VII впервые въехал в Лион в качестве короля в 1434 году, поэтому прием был умеренно праздничным, из-за нехватки средств. Въезд повторился в 1436 году и октябре 1456 года. За несколько дней до прибытия короля консулы собрались и решили представить ему через своего представителя несколько жалоб или просьб. Две из них касались "слабого и плохого правосудия, которое вершится в этом городе" (стоит вспоминать о насилии, которое далеко не всегда пресекалось) и того факта, что церковники постоянно приобретают земли, за которые отказываются что-либо платить [798].
Ассамблеи Генеральных Штатов
В более институциональном смысле, ассамблеи трех сословий, духовенства, дворянства и простого народа (фактически только представителей "добрых городов"), позволяли подданным, при определенных условиях, обращаться к королю, а последнему, реагировать на их просьбы.
Здесь уместно сделать одно замечание: более чем столетняя история существования английского Парламента являлась гораздо более внушительным образцом представительского собрания. В его основе лежит идея, ярко выраженная в трактате О похвалах законам Англии (De laudibus legis Anglie) Джона Фортескью (ок. 1394–1479), занимавшего в правление Генриха VI пост Лорда главного судьи Англии и Уэльса, о том, что почти с самого начала существования (так гласит легенда) королевство Англия имело смешанное управление, сочетающее королевскую власть, издававшую законы, и политическую или общественную власть, когда народ управляется законами, на введение которых он сам дал согласие. Следовательно, эти законы не могут быть изменены в одностороннем порядке, король не может ни нарушить, ни ввести новый закон без согласия народа, в лице его представителей, чей статус якобы сопоставим со статусом римских сенаторов. Собранием же этих представителями является Парламент (место, где люди высказывают свое мнение, обсуждают и принимают решения), регулярно созываемый королем, почти всегда в Вестминстере [799], и состоящий из двух палаты: Палаты лордов (24 епископа королевства, включая Уэльс, несколько аббатов, несколько десятков светских лордов — короче, высшая светская и церковная аристократия) и Палаты общин, состоящей из депутатов, избранных городами, по два от каждого города (четыре от Лондона), и представителей рыцарского сословия, составлявших четверть от общего числа депутатов. То есть около 300 человек. В частности, все вопросы, связанные с налогообложением, выносились на рассмотрение Палаты общин. Именно спикер, или председатель, Палаты общин подобно народному трибуну, должен был выражать ее мнение как политического органа, независимого от Палаты лордов. И эти мнения, выраженные в биллях (законопроектах), приводили к принятию всевозможных решений. Это не значит, что спикер обязательно был противником королевской власти и лордов, но от был от них независим. Что касается Палаты лордов, то она, в частности, разбирала дела о государственной измене и являлась судом для представителей высшей аристократии, в том числе и для самих членов палаты. Сессия Парламента могла закончиться предоставлением правительству права введения налога или субсидии, сбор которых затем контролировался представителями общин. В конце сессии король или его представитель распускал Парламент и благодарил депутатов за финансовую поддержку. Парламент также претендовал на право голоса в королевском Совете. Можно было бы осмелиться говорить о представительной демократии, но только если учитывать, что лорды и депутаты общин, все вместе, представляли интересы не более 10% населения Англии [800].
Можно было бы представить себе появление во Франции аналогичного института, вдохновленного той же политической философией (Святой Фома Аквинский, Эгидий Римский), тем более что военные неудачи королей из династии Валуа поставили их в опасное положение. Созывам представительских собраний способствовало целое течение политической мысли. С другой стороны, опираясь на традицию, восходящую по крайней мере к великому кризису 1355–1360 годов, Карл VII не считал, что Генеральные Штаты, как результат гипотетического консенсуса, могут укрепить его власть [801]; напротив, их ассамблея могла стать лишь источником осложнений и споров. Идеалом являлась возможность вообще обойтись без Штатов, но как это сделать, если они являлись обычным средством для получения денег?