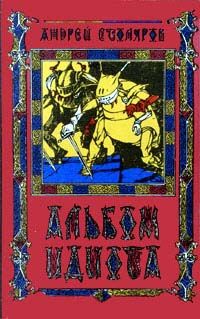Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
Иосиф после выступления на среде говорить ничего не говорил. Был в очень мрачном настроении. Лицо выражало всегдашнее брезгливое отношение к союзу писателей.
От друзей Иосиф почти ничего не требовал. Даже не всегда искал в них понимающего читателя. Требовал, чтобы они его не предавали, не делали пакостей. Требовал верности, сам был очень верным другом. Единственная претензия – хотел, чтобы ближние принимали действительность лицом к лицу. Частое и осуждающее слово его – “эскапизм”. (В частности, мои занятия нумизматикой считал эскапизмом.) Сам стремился, как он однажды сказал, к стопроцентности или в другой раз другими словами – “прыгать выше головы”.
Но и по-своему проявлял галантность, любил, расшаркиваясь, по собственной инициативе, оказывать друзьям знаки внимания. Раза два приезжал (прилетал?) из Питера на мои дни рожденья.
В первый раз подарки были:
Плотный лист изрисованный и исписанный разноцветными словами; четыре фигурных стихотворения: две греческие вазы, куст, елочка + посылка:
В углах вазопись: шестистолпный храм, крылатый гений с флейтой, красный кораблик.
И машинописный лист:
и так далее до конца. И дата: 3.VI.66
Иосиф в разговорах упоминал всегда одни и те же имена: Анна Андреевна – и Найман, Рейн, Бобышев, которые все трое существовали в разных контекстах. Других ленинградских имен при мне он не называл. И на встречу Нового 1971 в Ленинграде позвал только моего старинного приятеля Леню Черткова с женой и всем известных Профферов. Он принципиально не стремился перезнакомить своих друзей. На этом фоне многозначительный в Иосифовой семиотике жест – когда он в ЦДЛ на каком-то просмотре свел меня с Голышевыми, Микой и Наташей, и сказал:
– Я вас хочу познакомить, это самое лучшее, что я могу сделать.
Сам я знакомил Иосифа с кем мог. Главная моя заслуга – интродукция Иосифа в Литву. Об этом написал Ромас Катилюс, написал как было, может, немножко улучшил.
газета “согласие”, 11–17.06.1990
…Летом 66-го разговор чаще чем раньше касался Бродского… Чуткий к психологическому состоянию друга, Андрей Сергеев от нас ему постоянно звонил. В какой-то момент, в ответ на реплику Иосифа, наверное, типа “конец света” или “полный завал”, Андрей, повернувшись ко мне и моему брату Аудронису, зажав ладонью трубку, шепнул: “Иосифу плохо”. Мы в один голос сказали – пусть едет к нам. Андрей передал эту мысль Иосифу, и Иосиф… назавтра же был в Вильнюсе. Вечером, сидя за круглым старомодным столом в нашей столовой, он уже читал нам стихи.
В Литве Иосиф получил прекрасную замечательную историческую страну, куда всегда можно съездить и где тебя встретят с распростертыми объятьями.
Из поколения отцов, интеллектуал 20–30-х годов Пятрас Юодялис, такой же безденежный, как Иосиф, вдоволь нагулялся с ним по осенней почти дармовой Паланге и обсудил все проблемы. Его приговор на его манер:
– Иосифас – это молодой Гёте.
В израильском журнале стихи “Коньяк в бутылке цвета янтаря” были напечатаны под заголовком: “Пану Пятрасу Йодялису с любовью”.
Помимо гостеприимного дома Катилюсов, бывал у Чепайтисов. Тумялис принес пачку отличной машинописи, в ней обнаружились чужие опусы. На одном из листов Иосиф черкнул: “Этих стихов я никогда не писал. К сему И. Бродский”.
Самое существенное – он приобрел в Литве собрата-поэта и равноценного собеседника – Томаса Венцлову. Глобтроттер от рождения, Томас бывал всюду, в Ленинграде жил долгими месяцами, так что Иосиф получил почти регулярного напарника.
Весьма вскоре Ромас Катилюс перебрался из Вильнюса в Ленинград. Ромас с его трезвостью и высотой взгляда был всегда объективным судьей Иосифовых поступков. Потому что Иосиф, по своей прихотливости, хаотичности, может быть, невротичности, был способен выкинуть номер. Ну вот, допустим, Иосифа не печатали. В Ленинграде образуется какой-то альманах, то ли день поэзии, то ли еще что-то. Иосифа приглашают, только, конечно, надо бросить кость. В ссылке Иосиф написал послушное стихотворение “Народ”, которое, кажется, было напечатано в местной районной многотиражке. В стихотворении нет ничего неприличного, но сказать, что это – стихотворение Иосифа, что оно выражает его существенные мысли и чувства – нет, это стихи на случай. И вот Иосиф, поддавшись, выбирает стихи некоторым образом нейтральные – хотя эстетически нейтральных стихов по отношению к… – у него не было. Вот он берет какие-то стихи, более или менее проходимые, и предваряет их стихотворением “Народ”. Ромас говорит, что не ему мараться, выходя впервые в печать, что он не должен этого делать. В редакции был, конечно, разговор, шум, но “Народ” не пошел. Только какие-то два стихотворения.
Рубеж 60–70-х – время восхитительных, может быть, даже превосходящих более ранние, стихов Иосифа:
“Конец прекрасной эпохи”,
“Люди и вещи нас…”,
“Я всегда твердил, что судьба – игра”,
“Холуй трясется, раб хохочет”,
“Письма римскому другу”
“Сретенье” и др.
Зимой 1969–70 я провел два месяца в больнице. Иосиф прислал мне ободряющее письмо с вложением первой версии “Альберта Фролова” (которого я тут же заучил наизусть). Потом объявился сам – на сей раз мы занимались не его, а моими душевными перипетиями.
Когда Иосиф впервые пришел ко мне на Звездный, то потянул ноздрями, огляделся:
– Красиво.
В тот вечер мы с ним куда-то шли, и я надел новый твидовый пиджак. Он сразу:
– Андрей Яковлевич, вы хорошо одеты.
И когда я приехал в Ленинград на Новый 1971, опять сказал, что я хорошо одет. Ничего такого он прежде не говорил. Это был его способ выразить согласие с моей новой жизнью.
Форма, одежка – это было для него очень существенно. Ужасно гордился своей ирландской кепочкой. Советским гнушался.
В вечер встречи Нового года я впервые увидел Иосифовых родителей. Очень понравилось, что отец его, Александр Иванович, перед уходом переоблачившись из домашнего в парадное, из босяка превратился в сэра Роя Beленского.
Когда Иосиф впервые видел человека или попадал в новую среду, он вбирал все глазами, ноздрями, ушами, порами кожи. Причем делал это на удивление тактично – на удивление, потому что не был хорошо воспитанным юношей, как и все наши сверстники. В стихах он проявлял эту сенсуальность в такой степени, что меня, с задатками пуританина, она даже несколько приводила в смущение.
Но, как всякий выросший в эсэсэр, в коммуналке, Иосиф не был человеком изысканных, прихотливых, невероятных вкусов. Говорил: “Мой идеал – это кастрюля с котлетами, и чтобы руками из нее доставать одну за другой”. Любил государственные пельмени в пачках по 50 копеек, мог пообедать в любой тошниловке. Какой-нибудь особенный Шато-де-чего не производил впечатления. Было время, когда и я, и он пристрастились к джину. Может быть, ему нравился джин, а еще больше виски, по той же причине, по какой нравилось все американское.