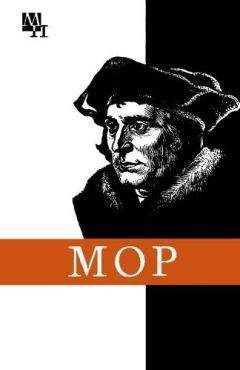Пьер Зеель - Я, депортированный гомосексуалист...
Меня одолевал ужас каждый раз, когда мое имя доносилось из громкоговорителя. Потому что иногда меня вызывали для того, чтобы провести на мне чудовищные эксперименты.[29] Чаще всего это были очень болезненные уколы в соски. Я прекрасно помню белые стены, белые халаты и смеющихся медиков-ассистентов... Нас вызывали с полдюжины, мы, раздевшись до пояса, стояли в линеечку у стены. Инъекции они делали, метая в нас шприцы, как метают дротики на праздничной ярмарке. Во время одного из таких сеансов тот несчастный, что стоял рядом со мной, внезапно рухнул на пол, потеряв сознание. Шприц пронзил ему сердце. Больше мы его не видели.
Одно из самых больших несчастий, оставшихся в памяти, — голод. Надзиратели заботливо поддерживали его, и он становился причиной многих столкновений. Голод заставлял нас идти на большой риск. Иногда, поставленный проследить за чисткой кроличьих клеток, я тайком съедал несколько морковок. Другой раз, например во время очередного допроса, офицер СС показывал нам банку с вареньем. Нужно было только сказать ему то, что он хотел услышать от нас, — и тогда, объяснял он, мы сможем отведать это нежное лакомство. Помню, как в ярости от того, что так и не смог побороть наше сопротивление, он опрокидывал банку и разбрасывал варенье прямо в комнате.
Голод заставлял некоторых совсем потерять рассудок. Помню одного заключенного, которого часто видели за «туалетами», состоявшими из нескольких досок с вонючей дырой, в которую самые тщедушные легко могли провалиться. Он всегда рыскал позади, потому что именно там вились рои мух. Каждый раз, когда ему удавалось схватить хоть одну, он тихонько издавал удовлетворенный вопль.
По воскресеньям нам устраивали иную пытку, многократно усиливающуюся в погожие дни лета. Пока мы работали, эсэсовцы устанавливали перед своим домиком столы, на которых были всевозможные яства. Ароматы их празднества доходили до нас, вызывая головокружение. А они шумно пьянствовали перед нашими глазами. Особенным успехом пользовалось эльзасское вино. Солнце и летняя жара были фоном для этой чудовищной картины. Нам с лихвой хватило бы и объедков банкета, мы сожрали бы их, ползая на четвереньках. Эсэсовцы пьянели и хохотали. Их лихорадочная фантазия становилась все острее, они соперничали в выдумках. Иногда сельский праздник заканчивался импровизированными садистскими играми, после которых мы снова кого-нибудь недосчитывались.[30]
Вскоре лагерь в Ширмеке был заполнен до отказа, как и все места заключения в Эльзасе; встал вопрос об увеличении вместимости лагерей. В соответствии со срочным приказом Гиммлера осуществление проекта строительства концлагеря Штрутгофа, расположенного в горной местности на высоте шестисот метров над нами, было ускорено.[31] Необходимо было расчистить место, освободив его от скал и булыжников, и натаскать бревна. Бараки там строились тоже. В грузовике или пешком, зажатые с обеих сторон немецкими овчарками, мы лесом поднимались туда. Немцы меняли партии узников, стремясь не допустить, чтобы мы слишком быстро догадались, что это за стройка. Напрасная предосторожность. Мы уже поняли, что нам приказано построить печи крематория. Нами овладело ощущение кошмара, и это чудовищное открытие сопровождалось шушуканьем, полным ужаса.
Проходили дни, недели, месяцы. Так я прожил шесть месяцев, с мая по ноябрь 1941-го, в мире, где правили дикость и ужас. Но сейчас я хочу рассказать еще об одном воспоминании, для меня самом жутком, тем более что все это случилось в первые недели моего пребывания в лагере. Оно больше всего способствовало моему превращению в бессловесную и безмолвную тень.
Однажды громкоговорители срочным порядком вызвали нас на площадь, где обычно проводилась перекличка. Лай и выкрики сделали свое дело, и мы без промедления явились туда все. Нас построили квадратом, мы стояли по стойке «смирно», окруженные эсэсовцами, как бывало на утренних перекличках. Пришел комендант лагеря со своим штабом. Я подумал было, что он снова примется внедрять в наши души свою слепую веру в рейх, состоявшую из указаний, оскорблений и угроз, наподобие знаменитых ругательств своего хозяина, Адольфа Гитлера.
Но на самом деле готовился обряд наказания — исполнение смертного приговора. В самом центре образованного нами квадрата поставили между двумя эсэсовцами молодого человека. Охваченный ужасом, я узнал Жо, нежного друга моих восемнадцати лет.
Прежде я никогда не замечал его в лагере. Его привезли до или после меня? В те несколько дней, что предшествовали моему приходу в гестапо, мы не виделись. Я застыл от страха. Как я молился, чтобы ему удалось бежать от их облав, их допросов, унижений. И вот он здесь, перед моими глазами, полными слез. Он не носил втихаря, как я, опасных депеш, не срывал воззваний, ничего не подписывал. И все-таки его взяли тоже, и вот он сейчас умрет. Приговор явно был подписан. Что произошло? В чем его обвиняли эти чудовища? Скорбя всем сердцем, я совершенно забыл о том, что причина смертного приговора была очевидной.
Затем из громкоговорителей полилась оглушительная классическая музыка, пока эсэсовцы раздевали его донага. Потом ему на голову нахлобучили белое цинковое ведро. И натравили на него свирепых псов из лагерной охраны, немецких овчарок, которые сперва искусали ему весь низ живота и бедра, а потом сожрали всего прямо на наших глазах. Ведро, крепко сжимавшее голову, отражало его вопли, делая их еще громче. Напрягшись всем телом, едва держась на ногах, с вытаращенными от ужаса глазами, полными слез, я молился только об одном — чтобы он как можно быстрее потерял сознание.
С тех пор я часто просыпаюсь по ночам от своего крика. Вот уже пятьдесят лет эта сцена все встает и встает у меня перед глазами. Мне никогда не забыть варварского убийства моей любви. Прямо на моих глазах, на наших глазах. Ибо нас были там сотни, сотни свидетелей. Почему сегодня все молчат об этом? Не все же умерли? Правда, мы были в лагере самыми юными, и с тех пор прошло много лет. Но мне думается, что кое-кто предпочел навсегда закрыть рот на замок, боясь воскрешать страшные воспоминания, вроде того, о котором я рассказал.
НАПРАВЛЕНИЕ – СМОЛЕНСК
Ноябрь 1941-го. Мои душа и тело давно привыкли к адскому ритму лагерной жизни, складывавшемуся из одинаковых повторяющихся дней, наполненных беспрестанными несправедливостями. Здесь не происходило ничего такого, что выходило бы за рамки ежедневного цикла жестокостей, методично запрограммированных СС.[32] Осень сменила лето. Невдалеке засверкал разноцветьем листвы лес. Из-за колючей проволоки и сторожевых вышек мы созерцали природу, столь прекрасную, такую щедрую. И когда мы смотрели на Вогезское ущелье, которое уже начинал покрывать снег, как часто нам хотелось, чтобы произошло хоть что-нибудь, не важно, что именно, — пусть самое худшее, но положившее конец вечному унижению и вырвавшее бы нас из их когтей..