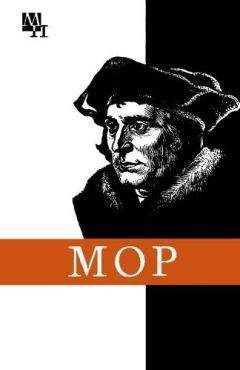Пьер Зеель - Я, депортированный гомосексуалист...
Ни один из ширмекских кошмаров меня не миновал. Очень быстро я превратился в жалкую марионетку, вихляющуюся на ниточках под улюлюканья эсэсовцев, вынужденную исполнять любые приказы и выполнять задания, забирающие все силы, опасные или попросту невыполнимые.
Вырванные из сна в шесть утра, мы жадно поглощали жидкую баланду с четвертушкой «коммисброта», что-то вроде черного хлеба, всегда черствого и заплесневелого. После переклички большинство уходило в долину дробить скалы в карьерах, расположенных вокруг лагеря, и потом грузило камни в вагонетки.[23] Эсэсовцы сторожили нас с немецкими овчарками, чтобы никому не вздумалось бежать в лес. Другим приходилось работать по одиннадцать часов без перерыва на заводе маршала де Вакенбаха.
Около полудня нам давали водянистый суп с кружочком колбасы. По возвращении в лагерь тщательно обыскивали. Затем мы расходились по баракам. День завершали две ложки похлебки из брюквы. Когда заканчивалась последняя перекличка, бараки запирались на два оборота ключа, и ночные обходы начинались еще до того, как солнце скроется за вершинами гор. Изнуренный, одичавший, я пытался поймать хоть чей-то взгляд, перекинуться хоть парой слов с такими же истощенными призраками, каким был сам. Но дни шли за днями, и я оставил попытки. Я понял, что любой контакт был здесь не то что немыслим — просто опасен: лагерь походил на муравейник, где каждый бежал выполнять свое абсурдное задание. Даже ходить поодиночке запрещалось, а сказать друг другу можно было разве что несколько ничего не значащих слов.
Мы, например, обязаны были, увидев валяющийся на земле крохотный кусочек бумаги, тут же поднять его и спрятать в карман. Эсэсовцы забавлялись, специально разбрасывая клочки и наблюдая, как мы бегаем, словно псы. А бывало, порой кое-кто из них бросал клочки почти у самой запретной зоны, в двух метрах от колючей проволоки, обозначавшей границы лагеря. Тех, кто бежал туда подобрать клочок бумаги, расстреливали в упор якобы за попытку к бегству. Но и тех, кто отказывался повиноваться, ждала та же участь — за неповиновение приказу.
Утром по воскресеньям ритуалом руководил сам начальник лагеря, гауптштурмфюрер Карл Бук. Нас в полном составе выводили на перекличку. Присутствовать были обязаны даже заболевшие арестанты. Выходя из санчасти, они вставали в строй, дрожа от лихорадки, или их приносили на носилках. Воскресный восход солнца вдохновляюще действовал на Карла Бука. Витиеватыми речами о достоинствах нацистской Германии, со свастикой на груди, он отечески увещевал свою недозрелую аудиторию.
Мы, отбросы общества, должны победить наше собственное упрямство, лицезрея блистательную судьбу великого рейха. Нашей единственной ценностью должен стать национал-социализм. Но ведь мы настоящий сброд, и «перевоспитать» нас — задача не из легких. Он любил порассуждать о зле, какое несла в себе религия: священники, которых его адъютант Роберт Вунш с особенным удовольствием избивал дубинкой почти до смерти, были для него только «химмельскомикер», то есть «небесными комедиантами». Он призывал к яростной борьбе с анархией, потому что только так можно было проучить интернированных из Испании после войны республиканцев. Хвастаясь, что сам воевал в Испании, он перечислял нам свои подвиги. Напоминал нам, что возможность сбежать отсюда — не более чем иллюзия. Мы слушали молча, окруженные надсмотрщиками. Невозможно было разговаривать, даже шептаться. Неподалеку от оратора, на виселице, вокруг которой вились стаи ворон, часто раскачивались по нескольку трупов — они составляли «декор».
В действительности этот бахвал, эта сорокашестилетняя гадина, просто был старым безработным, который, как еще столько подобных ему, записался в 1933 году в НСДАП, национал-социалистскую партию. Всего через две недели его произвели в капитаны СС и сделали уполномоченным по лагерям. Ему уже приходилось руководить концентрационными лагерями в Хойберге и Вельцхайме в Германии. Его деревянный протез руки не имел никакого отношения к испанской Гражданской войне: эту память ему оставила унизительная война 1914—1918 годов. Приходя в бешенство, он пользовался им как дубинкой.
За несколько месяцев Карл Бук удвоил вместимость лагеря в Ширмеке. Позже, в 1943-м, он приказал построить «зал для празднеств» — огромное строение с ведущими внутрь ступеньками, на фронтоне которого были изображены германский орел и свастика. Это здание вмещало до двух тысяч человек, внимавших его торжественным выступлениям, за которыми следовала демонстрация пропагандистских кинофильмов. Под этим «залом для празднеств» построили двадцать шесть карцеров. Некоторые из них были камерами пыток, до самого потолка забрызганными кровью. А если еще оставались так и не «перевоспитавшиеся», их, по личному приказу Гиммлера, увозили в направлении Штутгарта, где они заканчивали свою короткую жизнь в страшных муках. Но даже эта формальность не использовалась, если речь заходила о русских или поляках: их могли расстрелять в упор в любой момент. В их досье вполне достаточно было черкануть обычную формулировку «убит при попытке к бегству»[24].
Как только заканчивалась перекличка, каждый устремлялся на свою каторжную работу, причем всегда бегом. Не могу припомнить, чтобы хоть раз в античеловеческом мире, в котором пребывали около шестисот человек, они отправились бы на работы нормальным шагом. Если мы не бежали в карьер, то оставались в лагере. Нам приходилось выравнивать дороги, ведущие к баракам, волоча дорожный каток, ремни которого глубоко врезались нам в животы. Или, не жалея воды, драить стены всех бараков, а то и ухаживать за цветочными клумбами под окнами коменданта. Содержание лагеря должно было быть безукоризненным, а рапорты в Берлин — хвалебными. Карл Бук иногда приглашал сюда своих подельников из местных властей; их мнения должны были быть только положительными.
Но когда не было запланированных визитов такого рода, он никогда не перемещался по территории лагеря пешком. Карл Бук усаживался за руль своего черного «ситроена», машины с ведущими передними колесами, и мчался вдоль дорог на всех парах. Нужно было успеть броситься врассыпную, не забыв при этом на бегу приветствовать гауптштурмфюрера. Самых рассеянных и неловких он иногда давил. И черный астероид проносился, как смерч, по всем извилинам дорог вокруг бараков, не останавливаясь никогда.
Громкоговорители у нас над головами передавали классическую музыку: Баха, Бетховена, Вагнера, и военные марши. Эти мощные звуки прерывались сообщениями, приказывавшими такому-то заключенному явиться к властям, в хозяйственный отдел или в медсанчасть. Меня тоже так иногда вызывали. Надо было дополнить досье, которое было заведено на меня еще отделением гестапо в Мюлузе. Мне снова задавали те же вопросы. Так-таки мне совсем уж нечего добавить к уже сказанному? Они считали, что моих куцых сведений о нравах и обычаях городских гомосексуалов недостаточно. Я был так юн, что мог вызнать некоторые интересующие их секреты. Зачем это глупое сопротивление? И они охотно напоминали мне, что в любую минуту могут заставить меня разговориться.[25]