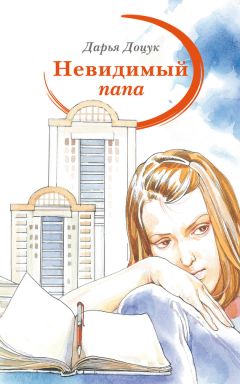Артем Маневич - Синий Колодец
На всякий случай Жорж спрятался за папину спину и нацелился было ткнуть пугачом Антошу в бок, а в эту самую минуту с дерева сорвалось тяжелое яблоко — и надо же! — угодило Жоржу в лоб.
— Гриша! Гриша! Жулик ударил нашего ребенка по головке… Смотри, какая дуля вздулась… В тюрьму бандита! В острог! — требовала Матильда Францевна.
И снова сорвалось тяжелое яблоко, а за ним другое, и угодили на этот раз в Матильду Францевну и в Григория Михайловича.
Довольно странно, почему падали яблоки. Деревья стояли неподвижно, ни один листок не шевелился. Вероятно, яблоки созрели, им пришла пора, они и упали. Так бывает.
* * *По лунному саду, мимо шалаша — он блестел каждой соломинкой, — мимо стола — на нем, остывая, посапывал и отражал большую луну самовар — вели Антошу и Тамару.
Антоша шел и думал: мама ждет, беспокоится… А тут вместе с ним заявятся сам Паучок, Матильда Францевна, офицеры…
Тамара тихонько всхлипывала… Хорошо, что Федя с Ваней успели убежать.
Размышления Антоши прервал грохот, да такой, что все вокруг дрогнуло, будто началась гроза и по небу катился железный гром… Нет, это не был гром… Небо оставалось безоблачным…
— Яволь, — произнес немецкий офицер.
— Яволь, — произнес второй немецкий офицер.
И опустив по-бычьи головы, почти не сгибая ног, как заведенные, офицеры потопали по садовой траве — скорее, скорее — и скрылись.
Закричали разбуженные грачи. Неподалеку задребезжали стекла.
Рука Тарикова вздрогнула и сползла с плеча Антоши, мальчик потянул за рукав Тамару, и они, не оглядываясь, побежали.
8Стараясь не скрипеть дверью, Антоша осторожно вошел в дом. Он увидел: огарок свечи прикипел ко дну перевернутой железной кружки, мерцал и шипел.
За столом сидела мать. Она устало спросила:
— Скоро солнце взойдет, а ты все бегаешь.
— Уже светает… — Дед Свирид показал на дрожащий свет в бледном небе.
Бегучие отблески отражались в оконном стекле.
Дед Свирид наклонился к матери, прошептал:
— Немцы бегут… сам видел.
И Антоша тут же вспомнил, как одинаковые офицеры, прижав локти к бокам, бежали в темноту.
Дед продолжал:
— Наших — сила!
Он сел за стол напротив матери, подул на огарок, тот, как бы дразнясь, вытягивал в стороны синевато-желтый язык, предостерегающе шипел и вдруг сам себя проглотил.
Запахло горелой свечой. Дед помахал на огарок, будто отгонял мух.
В комнате посерело, попрохладнело.
— И мой Вася, гляди, придет, — неуверенно сказала мать и с надеждой посмотрела на деда Свирида, потом зачем-то развязала и снова потуже завязала платок на шее.
— В самую пору Василию прибыть, — отозвался дед, думая, возможно, о том, что завтра Антошиной маме и Антоше выметаться по приказу Паучка на все четыре стороны.
* * *Глухо гремели далекие выстрелы, летали и, кружась, падали на крыши домов, на деревья, на землю обрывки бумаги, клочья сажи.
Дом Тариковых наглухо закрылся ставнями. Обиженно повизгивали собаки, запертые в сенях.
Усталые от бессонной ночи, новохатцы негромко переговаривались, спешили по Красной улице.
Дед Свирид, Антоша с матерью почти бежали.
На самых высоких тополях городского сада засветились верхние листья.
Громче заговорили люди, словно их приглушенные голоса оттаяли на свету. И еще быстрее шагали новохатцы мимо бледно-грязной тюрьмы, туда, где начиналась Красная улица, где небо уже рдело.
Мать прижимала угол головного платка к глазам и торопилась. Антоше и вовсе приходилось бежать. Он бежал и думал: каким стал его отец за два года, что они не виделись… У отца в руке наверняка большое ружье со штыком, а за спиной мешок, а в том мешке…
Совсем близко громыхнул оркестр, и над улицей поднялось круглое и красное солнце.
Антоша так и не успел представить себе, что может быть в отцовском мешке. Вместе с солнцем на улицу вступили, выгнув шеи, красные кони, а на конях, словно влитые, сидели люди и, округлив щеки, дули в огромные трубы. Один всадник широко бил в барабан, и казалось: в его руках само солнце. Каждым ударом барабанщик высекал из солнца красные лучи, они летели во все концы и перекрашивали в свой цвет небо, улицу, людей, весь мир.
Над музыкантскими трубами плескалось в небе крылатое знамя и неслось навстречу всем, кто шагал по росистой траве, по избитой колесами Красной улице.
Ехали все новые и новые всадники в буденовках, похожих на богатырские шлемы. Воспаленные глаза всадников смеялись.
Сверкала вся улица, залитая живым теплом раннего солнца.
«Вот почему она Красная», — вдруг подумал Антоша и глянул на маму. Она плакала и смеялась, и удивительно было, как можно сразу смеяться и плакать. Оказывается, можно.
Молодые и старые женщины припадали к ногам всадников, к лоснящимся шеям коней. Кавалеристы срывали шлемы, наклонялись, и их густые чубы сплетались с волосами женщин, с конскими гривами.
Мать рванула с головы платок и держала за бахромчатый угол. И Антоша словно впервые увидел, какие черные и красивые мамины волосы. И все люди увидели бегущую с платком женщину и расступились перед ней.
Мать бежала, нет, летела к человеку на рыжей лошади.
— Папаня! — закричал Антоша.
А мать одними губами вместе с воздухом выдохнула:
— Василий…
Лошадь скосила синеватый глаз на Антошу, звякнула удилами, как бы произнесла: ну что ж, хлопец как хлопец… И переступила передними копытами.
От лошади остро пахло потом, ветром, степной травой, сладковатым дымом пороха.
* * *Мимо собора, мимо тополей и лип, мимо садов с белым наливом и синими сливами ехал Антоша на рыжей лошади. Отец придерживал сына одной рукой впереди себя. А за спиной Антошиного отца — ружье, без штыка правда, но — ружье.
Красная улица гордилась Антошей.
— Ура! — кричала Красная улица.
И Федя Носарь, и Ваня Цыган, и две весело прыгающие косички кричали:
— Ура!
Все небо и вся земля кричали:
— Ура!
Оркестр играл утренний марш тысячью труб и барабаном не меньше солнца.
Новый день занимался над Красной улицей.
Совсем новый день.
Глава четвертая
Женя медленно открывает глаза. Неужто все приснилось: мальчик Антоша, его мама, друзья Антоши — Федя Носарь, Тамара с двумя косичками, Ваня Цыган.
И — солнце, летящее над Красной улицей.
Или все еще ночь, и во всем поезде проводник, Женя да машинист не спят.
Нет, всюду солнце: на белой простыне, на линолеумных стенах, в зеркале. И солнечный папа уже побрился и пахнет одеколоном.
Папа сбрасывает Женину простыню, щекочет губами и носом дочкину шею, хохочет. И Женя смеется.
— Встаю, ладно… Встаю! — И совсем как маленькая говорит: — Ты проснул меня, и я встаю.
— Аккуратней одевайся и получше причешись, — советует папа. — Нас будут встречать.
— Хорошо. Хорошо. Хорошо… Ни слова больше не говори и, если тебе все равно, выйди в коридор.
Папа берется за ручку двери, однако Женя успевает спросить:
— Ты мне вчера что-нибудь рассказывал?
Папа качает головой: да, рассказывал.
Небо, солнце, березы, речка исчезают в стене. Пробежал проводник. И снова из стены выплывает речка, небо, солнце. И берез нет. Березы остались в стене.
Разбежимся скоро мы
На все четыре стороны, —
поет Женя и очень аккуратно одевается… Их будут встречать. Какую выбрать ленту? Белую? Красную? Голубую? Пусть будет красная. Нет, голубая… И синее платье в горошину.
Женя причесывает стриженые каштановые волосы, сажает на них бант. Словно кусочек реки на голове. Красивая девочка, ничего не скажешь… Женя показывает солнцу язык, задвигает дверное зеркало в стену. И торжественно выходит в коридор.
Стучат и стучат колеса. Свистит в открытые окна ветер, свистит и надувает, как щеки, занавески.
— Умойся, да поаккуратней, — как ни в чем не бывало повторяет папа, — нас будут встречать.
Женя плотнее смыкает ресницы, полными пригоршнями швыряет воду на шею, в уши, в нос… куда попало. Нащупывает на стене вафельное полотенце, трет глаза и медленно открывает.
Лицо — розовое, и руки, и, вероятно, уши очень чистые.
Синий колодец, синее озеро, синее море, пожалуйста, Женя готова к встрече.
Из вагона выскакивает женщина с крашеными волосами. За ней — Вова-матрос. Воротник с якорями вздувается, как парус, закрывает Вовин рыжий затылок.
— До свидания! — во весь голос желает вагону Вова.
На вокзальную землю прыгают чемоданы: коричневый с серебряными замками, фиолетовый, перепоясанный, как парашютист, ремнями, маленький, черный, с оранжевой заплатой на боку, похожий на щенка.