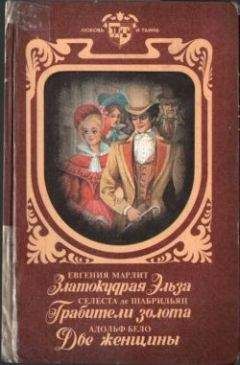Адольф Гофмейстер - Кто не верит — пусть проверит
— Папа, а что такое пустыня?
— Необозримый, пустой, безжизненный край. Равнина, где нет ничего, кроме песка. Пустыня страшна потому, что человек в ней ужасающе одинок и беспомощен: ни людей, ни жизни. Ведь ты знаешь, Кнопка, человек не может жить без людей. Но жизнь — это не только мы, люди, это и деревья, и птицы, и черви, и трава, и цветы. Одинокий человек в пустыне — это человек, оторванный от всего живого.
— Как потерпевший кораблекрушение среди моря.
— Это, пожалуй, еще хуже, потому что море живое, оно движется, в нем рыбы и водоросли. Но отчасти ты прав: песчаная пустыня несколько напоминает море — море песка. Целый день его накаляет солнце. Жжет так, что ты, непривычный к этому, не смог бы там ходить босиком. И все-таки пустыня не однообразна. Это очень трудно заметить, но она непрерывно меняется.
— Каким образом?
— Это работа ветра. Вообрази, что вот эта Заколдованная гора вся состоит из песка, что там нет ни сосен, ни лиственниц, ни расселин, поросших папоротником, черникой и ежевикой, — только песок. Вдруг из Польши подул восточный ветер, дует день и ночь, день и ночь… И вот ты приходишь сюда через несколько дней и видишь: там, где сейчас высится Заколдованная гора, — равнина. А долина, где стоят домики дяди Войты Титтельбаха[22] и Вацлава Трояна,[23] уже вовсе не долина, там нет ни ручья, ни домиков… высится новая гора песка, принесенного ветром. А потом направление ветра изменилось, и вдруг через несколько дней новая гора появилась на том же месте, где стоит Заколдованная, только чуть-чуть правее. Нечто похожее происходит ежедневно в течение столетий с Сахарой в Африке и с Аравийской пустыней в Аравии, с пустынями Турции, Ирака и Персии.
— А львы там водятся? Ведь львы — цари пустыни?
— Нет, цари пустыни не львы, не коршуны, не гиены, не бедуинские племена, не статные туареги,[24] а жажда и ветер. Горячий ветер самум поднимает пески пустыни, несет их красной смертоносной тучей, уничтожая все на своем пути. Поэтому вдоль караванных путей ставят высокие треугольные камни или другие опознавательные знаки, и только опытные всадники, погонщики мулов и проводники караванов не сбиваются с дороги. Теперь там ходят автобусы на гусеничном ходу, но их всегда сопровождают местные проводники.
— Если пустыня постоянно меняется, они обязательно должны заблудиться. И каждый день им нужна новая карта.
— Видишь ли, ведь это местные жители, которые сжились с песком, ветром и дневным зноем. Они идут от одного караван-сарая к другому, от оазиса к оазису, от колодца к колодцу так безошибочно, что со своими тяжело навьюченными верблюдами приходят именно в тот город или на тот рынок, который им нужен, словно через пустыню проложено асфальтированное шоссе, а там, где вечная пустыня сливается с горизонтом, стоит регулировщик и указывает путь.
— А сколько у них горбов?
— У кого? У верблюдов? Один. В Африке живут одногорбые верблюды — дромадеры. В Средней и Восточной Азии живут верблюды бактрианы, у тех два горба. Караваны верблюдов идут, вернее, выступают, гуськом, медленно и с достоинством. Верблюды раскачиваются на ходу, потому что они переставляют обе левые ноги и обе правые ноги, одновременно. Потому их называют кораблями пустыни. Пустыня напоминает море, а верблюд — корабль, качающийся на волнах. Иногда у едущих на верблюдах даже бывает морская болезнь. И эту однообразную, мерно качающуюся процессию с зари до зари нещадно палит солнце. Нигде ни тени, ни деревца.
— На то она и пустыня.
— Солнце огромное и жгучее, песок белый, а тени на нем красные, и чем ниже опускается солнце к горизонту, тем синее и фиолетовее становятся тени, и песок скрипит на зубах.
— Папа, я хочу пить.
— В пустыне нет воды. В некоторых вообще никогда не бывает дождя, в других — лишь несколько дней в году. С огромного пространства вода собирается в небольших котловинах: там вырастают пальмы, дающие немного тени. Эти уединенные прибежища влаги, где путники находят отдых, называют оазисами. Вода здесь — самое драгоценное сокровище. Арабы привыкли мало пить. Верблюд, говорят, может обойтись без воды тридцать дней. Так что и ты уж потерпи, пока мы дойдем до трактира Бурсиков.
— Я не верблюд.
— Но и здесь не пустыня. И солнце еще не заходит. В пустыне, когда солнце начинает скрываться за горизонтом, караваны останавливаются и смотрят вслед исчезающему светилу. Ждут последнего луча — он светло-зеленый. Блеснет на песчаном горизонте и… погаснет. Это конец дня. Песок быстро остывает, и ночью становится даже прохладно.
— Папа, мне холодно.
— А мне жарко. У тебя слишком разыгралось воображение.
— Папа, а где ты бывал в Аравии? Расскажи, только по порядку, пожалуйста.
Ноги у нас уже ныли, и мы присели на поваленную тумбу у кучи песка на повороте липовой аллеи. Я нарисовал палкой на песке карту Африки и Ближнего Востока и, рассказывая, пользовался палкой как указкой.
— Я был во многих арабских странах и, право, не знаю, почему никогда тебе об этом не говорил и ничего об этом не писал. Был я, например, в Сирии, в Дамаске, в библиотеках и на базарах, в горах Ливана, которые некогда были покрыты кедровыми лесами, а теперь почти голые. Был я и в Палестине и видел там могилы еврейских пророков, и гору Голгофу, на которой якобы был распят Христос. Был я и в покрытой валунами местности, где стоит город Вифлеем, видел цветущие розы Иерихона и развалины глиняных стен, которые вполне могли рухнуть от звука труб, как гласит библия. Я купался в Иордане и в Мертвом море; вода в нем такая плотная и соленая, что там даже стоять невозможно. В этом море еще никто не утонул. Не сможет утонуть, даже если захочет, потому что вода удержит его. Пил вино на еврейских виноградниках в горах Кармель.
В Суэцком канале я видел английские военные суда и авианосец, угрожающие своими орудиями независимому египетскому побережью. Не умея читать иероглифы, я все-таки пытался расшифровать надписи древних египтян о славе науки и красоте Нила, начертанные на папирусе, на воротах, надгробиях и обелисках. И, разумеется, я ездил на верблюде к пирамидам, к загадочному каменному сфинксу. Наш караван направился из отеля «Менгауз» в пустыню, где высятся три пирамиды. Над нами кружили тучи мух, жужжавших в совершенно сухом воздухе. Я купил особую плетку из конского волоса, чтобы отгонять назойливых насекомых. Она у меня до сих пор хранится. Трудно описать чувство, которое испытываешь, стоя перед высокой четырехгранной каменной горой, возведенной почти голыми руками много тысяч лет назад, или когда маленький, как муравей, стоишь у лапы сфинкса — каменной львицы с человеческим лицом, — и, по традиции, спрашиваешь, что тебя ожидает. Я был большим романтиком и тоже вполголоса задал вопрос: «Что ожидает меня, таинственный сфинкс?» Сфинкс, конечно, не ответил, потому что он каменный, но за моей спиной раздался голос: «Пойдем, в отеле „Менгауз“ нас ожидает ужин». Я плыл на пароходе по животворному коричневатому мутному Нилу к колоссам, уже целые тысячелетия прославляющим обветшалое могущество фараонов.
В Южном Тунисе я пересек на ситроене озеро Шит-эль-Джерид, где в течение трехсот шестидесяти дней в году водоем вместо воды покрыт кристаллической солью и только весной вода на пять дней поднимается до щиколоток. Поперек озера проложено хорошо асфальтированное шоссе. Из Метлави я ехал ночным поездом в знойном мраке, между стенами раскаленных скал, с горняками и поденщиками. Они пели. Все свои пожитки эти рабочие везли в узелочках. Ящерицу или канарейку, чтобы те не задохнулись в душном вагоне, они привязывали веревочкой за крылышко или лапку к раме раскрытого окна. Они настолько бедны, что уже равнодушны ко всему. Я был в Кайруанском университете. На побережье Мерса я забрел в военную зону, где артиллеристы иностранного легиона обучались стрельбе боевыми патронами, но, как видишь, остался невредим. Впрочем, виноват, соврал: во время этой прогулки я так обжегся на солнце, что у меня два дня держалась высокая температура, а кожа слезала лоскутами. На развалинах Карфагена меня взволновали пунические могилы,[25] оскверненные еще римскими завоевателями; в Сиди-бу-саиде на монастырских виноградниках архиепископа африканского я играл с арабами в футбол против команды монахов, одетых в сутаны. Был на конном заводе, где разводят арабских скакунов — самую благородную породу лошадей на свете. Был и в европеизированном Алжире и на папиросной фабрике господина Хуана Бастоса в Оране. В лесах, по пути из Алжира в Блид, гонялся с фотоаппаратом за африканской обезьяной, которую впервые увидел на свободе, а не в клетке зоологического сада.
Я был у подошвы Атласа, снежные вершины которого высятся над Сахарой. С мокрым платком на шее, в тропическом шлеме бродил в отчаянную жару по каменным и глиняным крепостям в Хоггаре. Был в волшебном, полном цветов саду султана в Маракеше, в Меллале и Касбе в Касабланке, сидел в концлагере Айн-чок в Марокко. В Сафи я вел переговоры с арабскими пиратами и контрабандистами, чтобы они вывели нас из страны, куда уже в 1940 году начали проникать фашистские военные миссии. Во время бегства меня поймали, интернировали, и я неделю просидел на парусном судне в Танжерском порту без куска хлеба, питаясь одними раками и омарами.