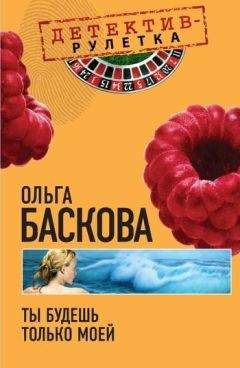Василий Лебедев - Утро Московии
– Скоро, скоро! – увещевал он избитых устюжан. – Как погонят нас за Камень, как выйдем за Волгу-реку – тут и стрельцов перебьем, тут и воля.
– Зело ловок ты, Лапоть, – угрюмо замечал Андрей Ломов.
– А коль не перебьем, коль за Камень увезут, так я вас – вот вам крест! – все едино на Русь выведу! Одним летом Волги достанем, а тут и Русь.
– Тут и плаха, – мрачнел Ломов.
– Тут проживем! Тут у меня столько богатства зарыто, что на всех вас хватит до смерти!
– Ты, Сидорка, не землю сеешь рожью, а живешь все ложью!
Андрей Ломов спокойно разговаривал со страшным разбойником, имени которого боялись в округе даже мужики, но здесь, в тюрьме, он был своим, почти ручным, и не проявлял никакого человекоядства.
– Я землю не пашу, зерна не сею, а жить умею! Гладом плоть свою источати не стану, понеже голова у меня так сделана, что я подьячим уподобился, токмо соболей ловлю не пером, а кистенем да вострым ножичком! Мы друг другу не мешаем: они днем воруют, а я – ночью.
– То ведомо всем. А скажи ты нам: сколько у тебя богатства зарыто и как ты, разбойное око, те рубли грабишь? – спросил Андрей Ломов.
– Я вот уж годов девять не грабливал, а рубли текли ко мне Сухоной-рекой! Чего прихмыливаешь?
Иван Кожин – тот самый, которого трепали за долги у правёжного столба, сидел теперь и ждал, когда его отправят в Москву на казнь за убийство заплечных дел мастера Истомы Толокнова. В ту гилевую ночь Кожин знал, кого искать и кого бить.
– Восхотел и прихмыливаю! – смело отвечал Кожин из угла. Он чувствовал себя не только равным Лаптю, но и выше: он был смертник. Цепи на нем были потолще, поновей.
– Тебя, глупого человека, на правёже держали за полтину разрубленную, а у меня больше четырех сотен рублёв зарыто!
– И не грабливал? – опять хмыкнул Кожин.
– И не грабливал! Понеже, глаголю те, башка моя не пуста есть! Я – посадский человек. Я хаживал к ладным помещикам, да князьям, да окольничим, а раз и у боярина был. Приду и продам себя в вечные. Цена мне везде была одна – сто рублёв.
– Ишь ты! Дороже Христа! – не унимался Кожин.
– Потому дороже, что не меня, а я сам себя продавал! Надену чистую рубаху, приодернусь, окручусь с головы до ног – сто рублёв получу из полы в полу и зарою. Через неделю-другую помещика моего убиенного найдут, а все вечные в тот же день волю обретают, как испокон повелось.
– Ух ты-ы! Убиенного найдут! Так сколько же ты душ так-то загубил? – ворохнулся Ломов.
– Аще ли к воле тщив[183], то станешь и к кистеню прилежен! А чего это там? Тихо!
В дверном замке кто-то осторожно копался металлом. Время было не обычное для входа в тюрьму воеводских людей, стрельцов или кого-то еще, даже сторож в этот час уходил ужинать.
– Да то Елисей! – предположил Ломов.
– Елисей на ужин протопал, – сказал Кожин, слышавший, должно быть, шаги сторожа.
– Тихо! Тихо! – Лапоть приник носом к толстой, шитой железными полосами двери, к самой растворной щели ее. – Братья! Не жен ли мироносиц ангел послал нам? Эй! Кто там?
Замок был уже открыт, но чьи-то неумелые руки не могли вынуть толстую дужку из мощного пробоя. Все узники встрепенулись и тотчас замерли. Вот уже звякнуло железо в последний раз, тяжело громыхнула планка, кованная из толстого бруса, и дверь медленно поплыла в полумраке августовских сумерек.
– Андрюша… – послышался взволнованный женский голос.
– Анна! Ты!
– Бегите!
Андрей не мог раскинуть руки и обнять жену – мешали цепи – и не мог надивиться этому нежданному чуду.
– Бегите! А не то воевода ключа хватится или сторож придет. Бегите в лес! Вот тебе пилы! – Она сунула Андрею крупносечные напильники за рубаху, а сама беззвучно плакала в три ручья, трогала его исхудавшее избитое тело.
– Матушка ты наша, заступница! – кинулся Сидорка Лапоть в ноги к Анне, цапал ее за колени, тычась в них бородой.
– Изыди! Ты грешен! – буркнул Кожин, обалдевший от счастья – он уходил от смерти. – Грешен, изыди!
– Я покаюсь!
Из тюремных ворот все кинулись в овражину, держа направление на лес, черневший вблизи.
Анна добежала с ними до оврага.
– Откуда ключ? – только и спросил дорогой Андрей.
– Жена Степки Рыбака, кою мучил воевода, сорвала у него, у пьяного…
– Анна… Я схоронюсь в солеломнях, у Тотьмы. Возьми сына и приходи через воскресенье, а не то завтра наутрее выходи на лесную дорогу.
– Андрюха! – послышался голос Лаптя уже из оврага.
Анна кинулась ему на шею, затряслась в громких рыданиях.
– Андрюха, убью! – заревел Лапоть.
Андрей скатился по склону, затрещал малинником. Анна стояла на краю оврага, беззвучно плакала и крестила темноту широким знамением.
Глава 9
По лесу долго бежать не пришлось: глаза выхлещешь ветками. Походили, покружили и, как всегда это водится, приткнулись будто бы в укромном месте, а оказалось – у самой дороги. Ночью по ней проскакали стрельцы, и то, что они торопились, значило: торопятся перекрыть дорогу под Тотьмой, оповестить там всех, вплоть до Вологды, а также самого воеводу Петра Мансурова.
Отошли беглецы от дороги подальше, повалились на землю, только спать не пришлось: какой сон, если на руках «железные вольности»? Принялись перетирать железо крупнозерными напильниками. Кто справился, откинул цепи – и спать.
Андрей Ломов боролся со сном. Он вышел к дороге и ждал рассвета, надеясь, что покажется Анна с сыном на руках. Было еще темно, но ночь переломилась к утру, еще час-другой – и посереет чернота в лесу, засветится небо, и новый день просеется сквозь частый ельник на землю. Лишь ненадолго он закрывал глаза, оставляя настороже слух, но вспоминал, что может просмотреть Анну, испуганно встряхивался и снова следил за пустынной лесной дорогой. В один из таких моментов он с радостью заметил, что стало светлеть небо. Свет был таким, будто солнце неожиданно вышло из-за облаков и сразу осветило мир. Присмотревшись лучше, Андрей понял, что небо светится много левей ожидаемого рассвета. «Это над городом свет…» – дрогнуло сердце кузнеца, но все его существо еще противилось страшной мысли, однако она пришла, суровая, беспощадная: «Пожар!»
– Пожар! – закричал он, теряя всякую осторожность, и побежал в лесную чащобу будить соузников.
– Да то рассвет, – пытался было противоречить Кожин, но ему возразил опытный лесовик Лапоть:
– Солностав ниже выйдет, то пожар, братья. Устюг горит!
До полдня Андрей продежурил у дороги, но Анна так и не появилась. Потом показались первые подводы погорельцев, тащившихся в деревни к родне. Шли пешие. Сидорка Лапоть вышел на дорогу и остановил одинокого мужика.
– Кто таков есть? – спросил Сидорка Лапоть.
– Аз есьм погорелец, – набожно ответил мужик и потащил с головы шапку перед разбойником, будто боярина встретил.
– Город горел али слободы?
– Город! Весь острог огню предался!
– Много ли сгорело? – хохотнул Лапоть.
– Весь острог до единого кола! Все дворы, и улицы, и лавки, и амбары без остатку сгорели! За грехи наши!
– За грехи ваши! – поддакнул Лапоть, невольно веселясь при виде людского горя. Он был не их, не людской стороны, человек, черствый ломоть человечества. – От чего загорелось?
– От чего загорелось? Так с Никольской улицы, с дому Стромилова. Там государевы сборщики пили с воеводой да и заронили огнь. А тут еще стрельцы пошастали по избам, стали колодников искати, а темь – они возьми да факелы зажги. Сами-то пьянехоньки – вот и заронили огонь еще.
Андрей не выдержал – вышел из кустов.
– Моя изба сгорела?
– Вся Пушкариха сгорела, и твоя изба тож…
Черная, как черная окалина, складка залегла в переносице Андрея. Губы сжало сильной черемуховой вязью – ни рот не открыть, ни шевельнуть языком, да и сам будто окостенел.
– А воеводский дом? – наконец выдавил из себя он.
– Сгорел.
– А кабацкого целовальника? Там, сторож говорил, Шумила Виричев сидел в подвале…
– И тот дом сгорел, и гостиные ряды по-над Сухоной, и Пчёлкина дом, и Дежнёвых, и Ивана Хабарова, и…
Андрей больше не слышал. Он повернулся и побрел в сторону Устюга.
– Ты куда? – с трудом догнал его Лапоть, разминая давно ослабевшие от долгого сидения в тюрьме ноги. Андрей не ответил и не остановился. – Куда? Ответствуй мне!
Андрей шел не оборачиваясь.
– Вернись, убью! – рявкнул Лапоть и рванул кузнеца за рукав однорядки.
– Там… – Он беспомощно указал рукой в сторону города.
– «Там»! – передразнил его Лапоть, но вдруг, заметив в глазах кузнеца слезы, он набычился, глянул снизу и веско сказал: – Там тебя воевода пропустит через «зеленую улицу» – палки по-за окраине не сгорели… Сиди в лесу, где сидел, я сам схожу, кляп те в ухо!
Сидорка Лапоть отобрал у мужика шапку, нахлобучил ее на самые глаза, будто его – бочку пивную – могли так не узнать, и с опаской направился в Устюг.
Погорельцы всё тянулись и тянулись по дороге. Плакали дети, всхлипывали женщины. Угрюмо молчали мужики. Кое-кто вел за собой корову или гнал стайку овец. Можно было подумать, что люди навсегда покидают это несчастное место, но многовековой опыт заставлял верить в то, что пройдет год-два – и поднимется новый город на том же месте. Люди вернутся к родным могилам.