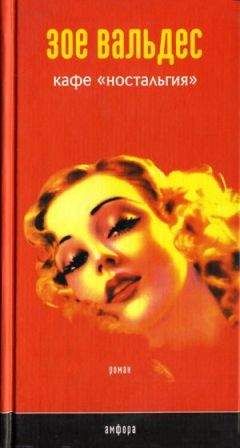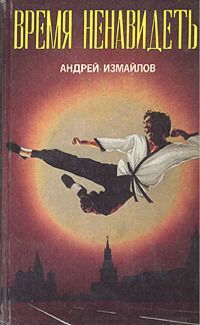Измайлов Андрей - Время ненавидеть
Сидит за рулем и непонятно, как машиной-то управляет: ни суеты, ни резких движений, ни вообще движений. Впечатление, что управляет мысленно. Не поседел, не полысел. Не обрюзг, не обдряб. Наоборот! И загар. Откуда в январе загар? Красавец! Только уши пельменными были, пельменными и остались. Хотя и они придают ему некий шарм: у Бельмондо челюсть обезьянья, у Вентуры мешки под глазами, у Филатова грудь впалая. А у Вики Мыльникова уши пельменные.
– Рад тебя видеть, Лешик.
– И я!
Он действительно рад, но насчет «видеть» – ему сложно: он на дорогу смотрит и меня наблюдает косвенно, краем глаза. Это я на него пялюсь сбоку и снизу вверх. Опять получается: победитель – побежденная. Потому, наверно, ничего у нас не получилось. И ни он, ни я никогда не пытались, чтобы получилось… Почти никогда. Начиная со школы. Терпеть не могу подчиненности (вероятно, и военных потому на дух не выношу), а Вика не может не подчинить. Вот и отношения сложились, как у России со Швецией: дружим, уважаем, рады видеть, не претендуем. Да и вообще Вика настолько безэмоционален, что просто не сможет сделать глупость.
– Что ты им сказал?
Он мельком делает узорчатый жест правой рукой и заканчивает его тем же мельком, проводя-погладив внешней стороной ладони меня по щеке. Дружеская ласка-утешение, надо полагать, что и почувствовала. А жест и правда узорчатый, каратэшный. Терпи подчиненность, Красилина, – сама призвала Мыльникова на помощь.
Ведь помог:
– Галина Андреевна, подождите меня в коридоре!
И ни один из садистов не пикнул. А через десять минут вышел и говорит мне:
– Ну, двинулись?
А все садисты ему из комнаты ручкой делают, как «и другие официальные лица». И с тем же выражением лица!
Я конечно пыталась прислушаться, о чем там за дверью. Но Викиного голоса: ни гу-гу. А садисты бухтели громко, но неразборчиво. Потому что все сразу. Сколько дыхание не затаивала – не понять… При чем тут любопытство! Судьба решается, без преувеличений! Я себе рисовала: вот они орут, будучи в своем праве; вот пауза после демонстрации Викой удостоверения; вот они орут объясняюще, а Вика фразой-двумя урезонивает их и реабилитирует меня; вот они орут уже виновато и примиряюще, а он если не прощает, то щадит их кратким междометием и покидает. «Ну, двинулись?».
– Что ты им все-таки сказал?
– Неважно. Отдыхай.
– Но ты им дал как следует?! Чтоб запомнили. A?
– Отдохни, сказал, от этой мысли.
– Но ты дал им?!
– Дал, дал, успокойся.
– А как? – теперь уже просто любопытство. Злорадное.
– Из рук в руки, как же еще.
– Что из рук в руки? Как ты им дал, тебя спрашивают!
– Не как, а сколько. Пятьсот ровным счетом. Но пусть тебя это не волнует.
… Меня это волнует. Настолько волнует, что глаза, не успев просохнуть, снова текут. Мокрое место от них остается. Два мокрых места…
Когда садисты в ОПОПе мне групповую пытку устроили, я расквасилась от злости и бессилия. А тут… злости нет, сила есть, но вот… На помощь позвала От беспомощности и реву. Беззвучно.
Значит, получается, Вика не то чтобы защитил честное имя одноклассницы, которую сто лет знает и, будучи представителем власти, может поручиться за ее беспорочность. А получается – откупил. Получается, принял как должное: гражданка Красилина обобрала пьяного, не сойдясь в цене за совместную ночь. А старая дружба не ржавеет и надо выручать гражданку Красилину (в девичестве Лешакову), в какую бы растакую-разэтакую Красилину одноклассница Лешакова ни переродилась за прошедшие сто лет. И откупил. За пятьсот.
«Но пусть тебя это не волнует».
А почему пятьсот, внутренне вдруг возмущаюсь! Откуда цифра вообще такая – пятьсот?!
– Триста – узкоглазому. Двести – налог ублюдкам! – говорит Мыльников, даже не покосившись. Скупым жестом выдергивает откуда-то тугой, твердый платок, обозначив внимательность, и кладет его мне на колени, похлопав – нет, опять же просто обозначив похлопывание дружески и успокаивающе.
– Уб-блюдки! – повторяет он. Холодно констатирует. Без ярости, а брезгливо.
И становится легче. Я реву уже облегченно, промокая стерильным Викиным платком капли-капельки. Вирус ты, хемингуэйный! Ничего не стал объяснять мне, но одним жестом, одним словом дал понять: Лешику верит, а во всю кабацкую историю не верит.
И поступил он просто по ситуации, единственно верно поступил. Победитель не должен метать бисер перед свиньями. Тогда сразу превратится в побежденного: нет большего удовольствия для ублюдков, чем покуражиться над мечущим бисер. На то они все там и садисты, чтобы, понимая абсурд обвинений, настаивать на них. И не такой уж абсурд с их точки зрения. А какая точка зрения может быть у свиней? Вика и победил: не стал объясняться, просто огрел взглядом и молча выложил пятьсот. Правильно! Триста за монголоида, двести… двести вымогали вчерашние мерзавцы. «Такса есть такса», – вразумлял меня прыщавый давеча. Пошел он со своей таксой! С-сутенер! Пусть со своих швабр стрижет свою таксу!.. Ну да, он и сунулся состричь? С меня… Неужели я похожа на… Утешься, не похожа! Красива – да, но уж тут. Просто для ублюдков любая красивая женщина – кукла для постели. А если кукла решила таким образом заработать, она должна платить. Такса есть такса…
Но обидно-то! Хоть и полегчало, но обидно-то! Отдаю себе отчет в том, что Мыльников поступил единственно возможным образом (по-другому он и не мог поступить и не поступал никогда). Но! Плевать мне на то, как ко мне отнеслись садисты. Их отношение понять несложно и безболезненно для собственного самолюбия и душевного комфорта. Если на них как на людей плевать, то просто смотришь и видишь. Да и вся их свинская сущность столь незатейлива, что там и понимать нечего, честно говоря. Но вот если человек для тебя кое-что значит и к тому же достаточно умен, дело становится во сто крат сложнее. Не потому, что перестаешь видеть, а потому, что постоянно сомневаешься в истолковании увиденного.
Вика достаточно умен. Вика для меня кое-что значит. Он – ровня. Именно! Красилин никогда не был ровней: смотрела снизу вверх и ни черта не видела, а рассмотрела и… равняться глупо. Не говоря уже о многочисленной категории вечнозеленых юнцов типа Петюни, на которых иначе как сверху вниз не глянешь, куда там равняться. А Вика… успокоил жестом, и то-то и плохо, что успокоилась.
Не буду успокаиваться, не подчинюсь! Ровня на то и ровня, чтобы не подчинять! Спасибо, спасибо, но больше ничего не надо, не на-адо.
– Куда мы едем? – дошмыгав обиду, спрашиваю с претензией на высокомерное недоумение. Едем мы через Литейный мост, а там рукой подать до «дворянского гнезда», что у Финбана. Такое суперсовременное «дворянское гнездо», облицованное идиотическим фиолетом. И живут в нем какие-то избранные. И Вика в нем живет. Где же ему еще жить! А я – нет. Ко мне ехать не через Литейный, а через Кировский мост. – Куда мы едем, я спрашиваю?
– Едем… – отвечает Вика нейтрально, обозначив не столько цель, сколько процесс, и оставив за мной право самой решать. Не право, а обязанность получается, демократ непробиваемый!
– На Комендантский! – проигрываю я собственному высокомерию, но все еще ерепенюсь: – Я тебе деньги должна отдать как-никак.
Сейчас он: пусть тебя это не волнует. А я: вот уж нет! что нет, то нет! А он: да ну, перестань! А я: это ты перестань, и… отдохни от этой мысли, дружба – дружбой, но…
Дружба – дружбой. Он отдыхает от этой мысли. МНЕ надо от нее уставать, а ОН отдыхает и, бесстрастно поглотив мою вводную, выезжает по набережной мимо гостиницы «Ленинград», мимо своего «гнезда», по мостику, по Куйбышева (там же нет поворота! ан для него – есть!) на прямую Кировского проспекта. И светофоры при его приближении торопливо перемигивают с желтого на зеленый.
А на переезде у Новой Деревни, где обычно получасовой транспортный застой, он проскакивает под верещащий опускающийся шлагбаум и даже ухом своим пельменным не ведет, в боковое зеркальце не глянет: что там позади.
Позади (не удержалась, обернулась) – запнувшееся, мгновенно образовавшееся стадо машин.
Мы прибыли…
***
– Значит, насчет рэкетиров. Ранее их можно было привлечь только по девяносто пятой или сто сорок восьмой Кодекса. Но не привлекали. Вот почему: девяносто пятая – вымогательство государственного или общественного имущества. И наши бар-раны никак не могли решить, относится ли собственность кооперативов к общественной. Не было на этот счет никаких прецедентов ранее или специальных разъяснений. Сто сорок восьмая – вымогательство. Не привлекали, потому что сложно доказать факт вымогательства: рэкетиры сразу начинали плести, что просто забирают свой должок. Или еще проще: они же не требовали никакого имущества, на что указано статьей, а просто немного деньжат. А деньги – не имущество, как считают некоторые законотворцы и законоисполнители… Да, пожалуй. Чашечку. Без сахара… Самая же главная причина беспомощности властей, на мой взгляд, заключается в том, что поскольку ничего подобного ранее не было, то бараны, коими сделала почти всех нас система, просто не могли решить, что же нужно делать в данном нетривиальном случае, а указаний сверху не поступало по причине наличия вверху таких же бар-ранов… На самом деле, я в том совершенно убежден, можно привлекать рэкетиров по семьдесят седьмой: за бандитизм. Поскольку есть первое – факт организации банды, второе – факт вооруженности (а два ножа уже значит – вооружены), третье – реальная угроза нападения на общественные организации… У тебя сейчас сбежит, убавь газ… Другое дело, доказывать – безнадежное занятие в наших условиях, при нынешней оснащенности милиции, при современной оценке доказательств. Ведь не принимаются в расчет нашими – и только нашими! – судами ни магнитофонная запись, ни даже видеозапись, сделанная без ведома подозреваемого и без его на то согласия. Подобные факты годятся только для того, чтобы заставить самого ублюдка честно, по-вышински, признать свою вину. Оттого несчастная милиция без всякой охоты бралась за такого рода дела, провальные изначально. Сейчас, правда, что-то меняется. Во всяком случае уже взята сотня-другая рэкетиров, возбуждены уголовные дела. Только неизвестно, как дела пройдут в нашем демократизировавшемся суде… Посмотрим… Нормальный кофе, благодарю… И надо учитывать: если берут одного, то он под каким угодно страхом не признается, что не один. А ведь не один. Их много и, не сомневайся, сделают все, чтобы потерпевший забрал иск, если потерпевший такой круглый дурак, чтобы иск подать.