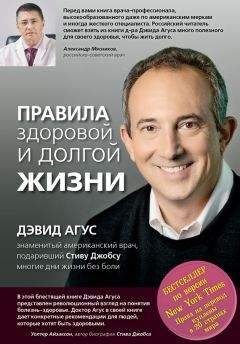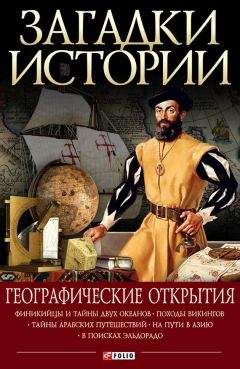Дэн Симмонс - Колокол по Хэму
— Нет, спасибо. Я предпочту быть хотя бы отчасти трезвым, когда всплывет немецкая субмарина.
— Зачем тебе это? — спросил Хемингуэй. Несколько минут спустя, когда сумрак начал сменяться настоящей тьмой, он продолжал:
— Волфер, наверное, наговорил тебе о Марти много нелестного.
Я молча поднял бинокль, оглядывая темнеющий горизонт.
— Волфер ревнует, — сказал писатель.
Его слова показались мне странными. Я опустил бинокль и прислушался к шороху ветра в тростниках.
— Не верь всему, что Волфер наговорил тебе в гневе, — продолжал Хемингуэй. — Марти талантливая писательница.
В этом-то и беда.
— В чем именно? — спросил я.
Хемингуэй негромко рыгнул и положил перед собой автомат.
— Марти талантлива, — ровным голосом произнес он. — По крайней мере, во всем, что касается литературы. Но я талантливее ее. Самое страшное в жизни — постоянно иметь дело с человеком, способности которого для тебя недостижимы.
Я знаю это по себе.
Несколько минут Хемингуэй молчал. Последние фразы он произнес таким будничным тоном, что я сначала понял, что он не хвастается, и только потом — что он наверняка прав.
— Что вы собираетесь писать дальше? — спросил я, сам изумившись своим словам. Однако мне было любопытно.
Хемингуэй тоже удивился:
— Тебя это интересует? Тебя? Человека, который всегда был невеждой в литературе и останется им до конца своих дней?
Я вновь посмотрел в бинокль. Горизонт превратился в туманную полоску. В темноте шум прибоя казался очень громким. Я бросил взгляд на часы. Двадцать восемь минут десятого.
— Извини, Лукас, — сказал Хемингуэй. Это был единственный случай, когда он просил у меня прощения. — Я еще не знаю, какой получится моя следующая книга. Может быть, когда-нибудь, когда кончится война, я напишу о нашем бестолковом предприятии. — Я заметил, что он смотрит на меня сквозь тьму. — Я выведу тебя в качестве одного из персонажей, но соединю в нем худшие черты, взятые у тебя и Саксона.
У этого героя будет грибковая гниль на ногах и твой дерьмовый характер. Тебя все возненавидят.
— Зачем вы это делаете? — негромко спросил я. Ветер сдул с моего лица несколько москитов. В темноте поблескивала линия прибоя.
— Что?
— Зачем вы описываете вымысел вместо реальных событий?
Хемингуэй покачал головой.
— Очень трудно быть хорошим писателем, если ты любишь мир, в котором живешь, и любишь незаурядных людей.
Еще труднее, если ты любишь так много разных мест. Ты не можешь попросту копировать окружающий мир, это была бы фотография. Ты должен описывать его, как Сезанн, исходя из внутренних движений своей души. Это — искусство. Ты должен творить изнутри. Понимаешь?
— Нет, — ответил я.
Хемингуэй чуть слышно вздохнул и кивнул.
— То же самое происходит, когда ты слушаешь людей, Лукас. Если их впечатления достаточно живы и красочны, они становятся частью тебя, вне зависимости от того, что тебе рассказывают — правду или выдумки. Это не имеет значения.
По прошествии некоторого времени их впечатления становятся более живыми, чем твои собственные. Ты творишь, исходя из своего опыта и их впечатлений, и постепенно становится неважным, чьи это впечатления... где твое и где чужое, что правда и что вымысел. Отныне все это — правда. Твоя страна, ее климат... люди, которых ты знаешь. Но ты ни в коем случае не должен демонстрировать все свои впечатления, весь свой опыт... словно ведя пленных солдат маршем по столице... Именно этим занимались Джойс и многие другие авторы, и только потому их постигла неудача. — Он мельком глянул на меня. — Джойс — это мужчина, не женщина.
— Знаю, — сказал я. — Видел его книгу на вашей полке.
— У тебя хорошая память, Джо.
— Да.
— Ты мог бы стать отличным писателем.
Я рассмеялся.
— Мне нипочем не нагородить столько лжи. — Только произнеся эти слова, я понял их истинный смысл.
Хемингуэй тоже рассмеялся.
— Ты самый ловкий лжец из всех, кого я когда-либо знал, Лукас. Ты врешь с той же легкостью, что младенец сосет материнскую грудь. Тобой движет инстинкт. Я знаю. Я и сам сосал эту грудь.
Я промолчал.
— Писать прозу — то же самое, что грузить судно, но так, чтобы не потерять остойчивость, — продолжал Хемингуэй. — В каждую фразу нужно втиснуть бесчисленные нюансы, большинство из них — незаметно, намеком. Ты видел акварель Зена, Лукас?
— Нет.
— Тогда ты не поймешь, если я скажу, что Зен рисует ястреба, кладя на изображение неба голубой мазок... без ястреба.
— Не пойму, — отозвался я, хотя какая-то часть моего сознания воспринимала его мысль.
Хемингуэй указал на океан.
— Это что-то вроде субмарины, которая в эту самую минуту плывет где-то там. Увидев только ее перископ, мы поймем, что под ним находится все остальное — ходовая рубка, торпеды, машинный зал с трубопроводами и штурвалами, дисциплинированные немцы, склонившиеся над мисками с кислой капустой... чтобы понять, что она тут, рядом, нам не нужно видеть ее целиком — только проклятущий перископ. Так же обстоят дела с хорошей фразой или абзацем. Теперь уразумел?
— Нет, — ответил я.
Писатель вздохнул.
— В прошлом году мы с Марти были в Чунцине, и я встретился там с молодым флотским лейтенантом по имени Билл Ледерер. В этой забытой богом стране нечего пить, кроме рисовой водки с дохлыми змеями и птицами, но прошел слух, будто бы Ледерер приобрел на китайском рынке два ящика виски, и что этот болван до сих пор не откупорил ни одну из них... его вот-вот должны были перевести, и он приберегал спиртное для большой пирушки. Я сказал ему, что не пить виски — то же самое, что не спать с симпатичной девчонкой, когда представилась возможность, но он упрямо хранил бутылки для особого случая. Ты следишь за моей мыслью, Джо?
— Пока да, — ответил я, вглядываясь в прибой.
— Мне хотелось выпить, — продолжал Хемингуэй. — Я изнывал от жажды. Я предложил ему хорошие деньги... кучу долларов... но Ледерер отказался продать. В конце концов я в отчаянии сказал ему: «За полдюжины бутылок я отдам тебе все, что ты захочешь». Ледерер почесал затылок и заявил: «Хорошо, я обменяю шесть бутылок виски на шесть уроков о том, как стать писателем». Отлично. После каждого урока Ледерер дает мне по бутылке. На последнем занятии я ему сказал:
«Билл, прежде чем ты сможешь писать о людях, ты должен стать цивилизованным человеком». — «Что такое цивилизованный человек?» — спрашивает Ледерер, и я отвечаю: «Быть цивилизованным — значит обладать двумя качествами — состраданием и умением держать удар. Никогда не смейся над человеком, которому не повезло. И если тебя самого постигнет неудача, не проклинай судьбу. Держи ее удары и сохраняй самообладание». Точно так же, как я держал твои удары, Лукас. Ты чувствуешь, к чему я клоню?
— Понятия не имею.
— Это не важно, — сказал Хемингуэй. — Главное, что я дал тебе больше советов о том, как хорошо писать книги, чем лейтенанту Ледереру. Из всех советов, которые он от меня получил, самым ценным был последний.
— Какой именно?
— Я предложил ему отправиться домой и попробовать свой виски. — Хемингуэй заулыбался так широко, что я увидел в свете звезд его сверкающие зубы. — Китаезы всучили ему два ящика бутылок с чаем.
Несколько минут мы молчали. Когда задувал ветер, брезент над нашими головами почти не шевелился, зато сухие тростниковые стебли трещали, будто игральные кости в оловянной кружке.
— Самая главная трудность — писать правдивее правды, — заговорил наконец Хемингуэй. — Именно поэтому я предпочитаю вымысел реальности. — Он поднял свой бинокль и оглядел темный океан.
Я понял, что тема исчерпана, но продолжал допытываться:
— Книги живут дольше человека, ведь правда? Я имею в виду, дольше своего автора.
Хемингуэй опустил бинокль и посмотрел на меня.
— Да, Джо. Сдается мне, ты все-таки увидел подлодку и ястреба. Книги живут дольше. Если они хоть на что-нибудь годятся. А писатель всю жизнь проводит в одиночестве, каждый день заглядывая в бездну... Может быть, ты действительно понял. — Он опять поднес к глазам бинокль. — Расскажи мне все с самого начала. О том, как возникла эта путаница и как все запуталось еще сильнее.
Я рассказал ему все, умолчав лишь о допросе Шлегеля и свертке, который лежал в коровнике.
— Значит, ты полагаешь, что целью первой передачи было заманить нас сюда? — уточнил он.
— Да.
— Но не только нас с тобой. Вероятно, они ожидали, что мы притащим сюда «Пилар» и остальных.
— Возможно, — согласился я. — Но, по-моему, это несущественно.
— Что же тогда существенно, Джо?
— То, что мы с вами находимся здесь.
— Почему?
Я покачал головой.
— Я и сам не все понимаю. Шлегель сказал, что в операции участвует ФБР, но, должно быть, он имел в виду только Дельгадо. Я не верю в то, что Гувер связался с немцами. Это чистый вздор.