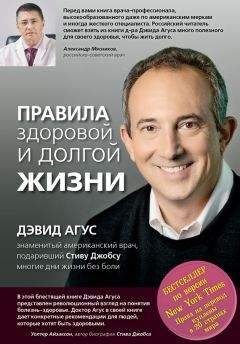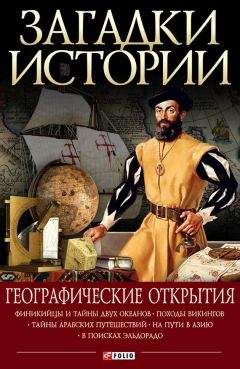Дэн Симмонс - Колокол по Хэму
— Почему бы и нет? — возразил Хемингуэй. — Кого он больше всего боится? Нацистов.
— Нет.
— Коммунистов?
— Нет. Гувер боится упустить власть... контроль над ФБР.
Коммунистический переворот в Штатах страшит его куда меньше.
— Какое же отношение к его страхам имеет эта запутанная кубинская история? — спросил Хемингуэй. — Ведь люди в первую очередь руководствуются страхом, а уж потом — другими эмоциями. Во всяком случае, так подсказывает мой опыт.
Его слова заставили меня задуматься.
* * *Плотик пересек линию прибоя ровно в двадцать три ноль-ноль. Потом мы увидели две темные фигуры, тащившие плотик по мерцающим волнам на узкую песчаную полоску, которая отчетливо виднелась в свете звезд. Потом они вскрыли контейнер, вынули закрытый фонарь, повернули его окошком к темному океану и начали передавать сигналы.
Десять секунд спустя на ходовом мостике в нескольких сотнях ярдов от нас блеснули едва заметные вспышки — две точки, два тире, одна точка. Потом вновь воцарилась темнота, в которой раздавался шорох прибоя.
Мы с Хемингуэем следили за тем, как лазутчики выпустили воздух из плотика, уложили его в ближайшую впадину — в трех расщелинах от нашей — и закопали, звякая лопатами и негромко переругиваясь по-немецки. Потом они зашагали вверх по холму к тому самому дереву, которое мы отметили днем как «идеальное» укрытие.
Мы с Хемингуэем выползли из-под брезента и, опустившись на колени в зарослях, смотрели, как агенты поднимаются по склону в семидесяти шагах от нас. Ветер и прибой заглушали голоса, но ветер дул с их стороны, и мы услышали несколько слов по-немецки. Над зарослями возвышались только их плечи и головы, видимые в свете звезд, но потом и они исчезли, когда лазутчики вошли в тень дерева.
Хемингуэй приложил губы к моему левому уху:
— Мы должны двигаться следом за ними.
Я кивнул.
Внезапно их фонарь подал два сигнала. На гребне в тридцати ярдах от нас, едва видимая сквозь стебли и обломки тростника, мигнула одинокая вспышка другого фонаря, более слабого.
— Будь я проклят, — шепнул Хемингуэй.
Мы поползли по-пластунски вверх по склону, цепляя запястьями ремни автоматов и направляя их стволы прямо перед собой.
И вдруг совершенно неожиданно началась стрельба.
Глава 24
Огонъ велся не оттуда, где мы заметили вспышку второго фонаря — стрелявший находился неподалеку от точки, где мы в последний раз видели двух агентов. Я уткнулся лицом в песчаный склон, решив, что эти двое обнаружили нас и пытаются убить. Вероятно, Хемингуэй подумал о том же — переждав первые четыре выстрела, он поднял свой «томпсон», по-видимому, собираясь открыть ответный огонь. Я ударом пригвоздил ствол его автомата к земле.
— Нет! — прошептал я. — Они целятся не в нас!
Стрельба прекратилась. Из тени под деревом на гребне послышался громкий, леденящий душу стон, потом вновь воцарилась тишина. Прибой продолжал мерно накатываться на берег, его звук сливался с шумом крови, бившейся в моих висках. Полумесяц луны еще не поднялся, и я поймал себя на том, что пытаюсь действовать, как на тренировках по стрельбе в условиях слабой освещенности — ловлю движение краешком глаза, определяя положение противника периферийным, а не прямым зрением.
Хемингуэй лежал рядом, напрягшись, но, судя по всему, стрельба ничуть не испугала его. Он подался ко мне и прошептал:
— Почему ты думаешь, что они целили не в нас?
— Я не слышал свиста пуль над головой и шороха кустов, в которые они должны были угодить, — шепотом объяснил я.
— В темноте люди стреляют выше цели, — заметил Хемингуэй, продолжая вжиматься в склон и быстро поворачивая голову из стороны в сторону.
— Да.
— Ты определил, из какого оружия стреляли? — спросил Хемингуэй.
— Из пистолета либо одиночными из автомата, — прошептал я. — «Люгер», может быть, «шмайссер». Судя по звуку, девятимиллиметровый.
Хемингуэй кивнул.
— Они могут обойти нас справа. По тростниковому полю.
— Мы бы услышали их, — возразил я. — Мы здесь в безопасности. — Пока нам действительно нечего было бояться.
Несмотря на то что стрелявший находился выше нас, занимая более выгодную позицию, любой, кто попытался бы подобраться к нам слева по высоким скалам, либо справа через тростниковое поле, выдал бы себя громким шорохом или хрустом стеблей. Разделявший нас склон и гребень густо заросли кустарником; мы с Хемингуэем без труда поднялись на холм при дневном свете, однако ночью было практически невозможно напасть на нас, не издавая шума.
Разве что если противник заранее тщательно изучил склон и мог ползти вслепую.
Могло случиться и так, что в эту самую минуту, когда мы лежали здесь, сосредоточив внимание на гребне, из заболоченной бухты за нашими спинами по склону поднимались другие.
— Иду вперед, — прошептал я.
Хемингуэй крепко стиснул мое плечо:
— Я тоже.
Я придвинулся к нему вплотную, и теперь мой шепот был почти не слышен:
— Кому-нибудь из нас придется ползти направо, туда, где мигал второй фонарь. Другой попытается приблизиться к дереву... чтобы проверить, там ли те двое или уже ушли... — Я понимал, что разделяться в темноте опасно — хотя бы из-за того, что мы могли начать перестрелку между собой — однако от одной мысли о человеке, затаившемся справа, у меня по спине пробегали мурашки.
— Я пойду к дереву, — прошептал писатель. — Захвати фонарик. Нам ни к чему палить друг в друга.
Мы загодя прикрыли стекла фонариков плотной красной материей, через которую проникали едва заметные лучи. Это и был наш опознавательный сигнал.
— Осмотрев местность, встречаемся здесь же, — прошептал Хемингуэй. — Удачи! — Он начал протискиваться под низкими ветвями кустарника.
Я прополз направо, спустился в нашу расщелину, выбрался с другой стороны, вплотную приблизился к тростниковому полю и только тогда стал подниматься по склону к гребню.
Я не слышал ни звука, кроме шороха ветра в тростнике, шума прибоя и своего натужного дыхания. Я полз на коленях и локтях, не забывая держать задницу как можно ниже. Теперь в любую минуту могла взойти луна.
О том, что я добрался до вершины гребня, я догадался только после того, как выполз из густого кустарника и почувствовал под собой травянистую, но плотно утоптанную тропинку. Слева от меня тропинка петляла по гребню, приближаясь к дереву. Справа от меня она изгибалась влево вдоль стены тростника и спускалась по восточному склону к дороге, которая шла берегом бухты к рельсам и заброшенной мельнице. Я торопливо пробежал по дорожке и, опустившись на корточки под кустом, осторожно и медленно поднял голову.
Я не уловил движения ни слева, ни справа, не слышал, как Хемингуэй подбирался к дереву в пятнадцати метрах от меня.
Я бросил взгляд в сторону бухты и не увидел ничего, кроме темной воды и пальмовых крон на противоположном берегу под Двенадцатью апостолами. Вероятно, я оказался точно в том месте, где вспыхивал второй фонарь, но в темноте не обнаружил никаких следов и решил, что его обладатель вернулся по тропинке на юг, к бухте, рельсам и мельнице.
Либо он засел в кустах за поворотом тропинки.
Я повесил автомат на шею, сунул ствол под левую руку, вынул из кобуры «магнум», снял его с предохранителя и положил большой палец на ударник затвора. Перемещаясь на полусогнутых ногах и только короткими перебежками, я отправился по тропинке к югу, петляя из стороны в сторону и задерживаясь в укрытиях, чтобы отдышаться и прислушаться.
До меня доносились только шорох тростника и звук все удалявшегося прибоя.
Внизу холма тропинка проходила по открытому участку.
Я стремительно перебежал его, непрерывно петляя. Мои внутренности сворачивались клубком в ожидании выстрела, но выстрела не было, и, оказавшись у подножия, я остановился на двадцать секунд, чтобы унять дыхание, после чего ступил на старую железнодорожную ветку, пробегавшую вдоль берега.
Если Хемингуэй попал в беду, я мог бы за пару минут добраться до него, взбежав по склону и спустившись по гребню. И, возможно, угодить в очередную западню.
«Не очень-то умно, Джо», — сказал я себе и двинулся к югу, к старой дороге. Когда мельница работала, дорога, вероятно, была покрыта гравием, но теперь ее середина заросла травой и лианами по пояс — остались только две едва заметные колеи.
Я бежал, пригибаясь и держа плечи на уровне травы, подняв пистолет, готовый к стрельбе. Инстинкт подсказывал мне, что в темноте и высокой траве нож удобнее огнестрельного оружия.
Кто-то шевельнулся примерно в сотне шагов впереди — там, где стену тростника прорезали старые рельсы. Я упал плашмя и навел пистолет обеими руками, понимая, что этот «кто-то» находится слишком далеко для прицельной стрельбы, и ожидая очередного движения. Все было тихо. Я досчитал до шестидесяти, поднялся на ноги и побежал дальше, перепрыгивая с колеи на колею через неравные промежутки. По моим ногам и локтям хлестала высокая трава.