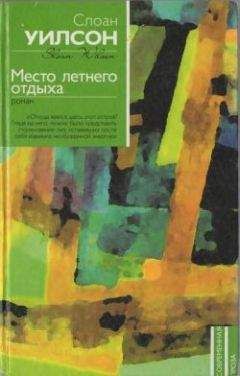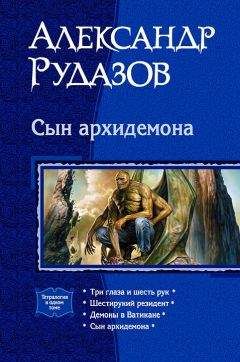Малколм Прайс - Аберистуит, любовь моя
– Ну же сынок, хочешь бобов?
Самолет исчез. Его место заняло вихрящееся мутное видение из далеких времен – футбольное поле, клочок Дерна, где опрокидывались все правила, которые мы учили в школе, где сила была правом, а интеллект – проклятием. Поле, где ум приносил смерть, и умнее всего было оставаться невидимкой. Поле, где ради нас Марти пал на свой меч, а потом исчез в тучах и не вернулся никогда.
Ну же, сынок, хочешь разобраться, так ведь?
Я оглядел его, примериваясь. Он, конечно, старше меня, но не ветхий. Куда там. Он был, пожалуй, поприземистей, потолще, поседее, но противник он все равно знатный, и сам это понимал. И еще – он до сих пор считал, что я цаца. Как офицер коммандос, который полагает своим долгом быть круче любого молодого солдата в своем подразделении, учитель физкультуры никогда не отказывается от убеждения, что сумеет поколотить любого из своих бывших учеников.
– Ну же, голубчик, покажи, из какого ты теста.
И он кисло улыбнулся своей трещиной.
Я оглянулся через плечо на Ллиноса – тот словно прирос к месту. Он мог бы вмешаться, мог метнуться вперед и занять мое место. Но некий первобытный инстинкт держал его в узде. Некое знание, что это моя битва, прочувствованное скорее, чем понятое, – им, вероятно, обладали мужчины на протяжении всей истории, на улицах Трои так же, как и на улицах Додж-сити и Аберистуита. Хотя Ллинос и был всего в нескольких ярдах, ситуация по сути своей исключала его. Без слов он протянул мне биту. Я взял ее одной рукой – Ирод рассмеялся. Он шагнул ко мне, все еще усмехаясь. Вновь блеснула молния.
– Уйдите с дороги, мистер Дженкинс.
– А ты меня заставь.
– Если придется, заставлю.
Он сделал еще один осторожный шаг вперед.
Я крикнул:
– Прочь с дороги!
– Ты этого не сделаешь.
– Ей-богу сделаю.
Ирод замер как раз на границе досягаемости биты, и Вселенная затаила дыхание. Он поглядел на меня, я на него – мы жгли друг друга взглядами. Наверно, никогда прежде он так не смотрел на ученика. Незнакомые эмоции скользнули по водам его глаз, и он произнес мягким сипловатым голосом, которым на моей памяти не говорил ни разу:
– Ты меня до сих пор не простил, да? Спустя столько лет – ни ты, ни эти остальные.
Я крепче сжал биту, и Ирод протянул ко мне руку.
– А что, по-твоему, чувствовал я? Вот ты – ты сумел отделаться от этих воспоминаний?
– Это ваша вина.
– Следствие было иного мнения – записка от его мамаши была липовая. Сам сварганил. Он всегда так делал. Ты ведь знаешь.
– И что это доказывает?
– Он мог бежать.
– Из-за паршивого клочка бумаги? Так, да? Так вы думаете?
– Должны быть правила, мальчик!
– Мать-его, Ирод! – закричал я и поднял биту. Ирод отбросил показное миролюбие и метнулся вперед, а у меня в этот момент перед мысленным взором проплыла еще одна давняя-давняя сцена. Над маленьким запуганным мальчиком в крикетных щитках витийствует мужчина, десятикратно превышающий его размерами. «Не так, а вот так, дурачок! Держи вот так. Нет! Еще выше! Теперь махни! Не так, вот так!» Эти слова, как текст гимна, который ежеутренне поют в актовом зале, пришли ко мне сквозь годы. И я подумал о Марта и о Бьянке, а также о Ноэле Бартоломью, человеке, который протащил фотографию грошовой шлюхи аж на самый Борнео в задней стенке своего фотоаппарата. Я вдруг понял, что он наверняка умер смеясь и задорный ген, который мне от него достался, – это не ген безумия и не ген неудачника, это – ген мужика с крепкими яйцами. Ирод сделал последний необратимый шаг ко мне и отведал собственного лекарства – я претворил в жизнь все его наставления многолетней давности. Я ухватился за ручку покрепче, расставил ноги и махнул. Махнул – махнул изо всех синхронизированных и сфокусированных сил своего тела. И брусок ивовой древесины, помазанной льняным маслом, врезался в череп учителя физкультуры над ухом. Ошеломление сверкнуло у него на лице – удар на шесть очков! Я смотрел, потрясенный и охваченный жутковатой гордостью за свои запоздало развившиеся атлетические навыки, как он кувырнулся вбок и вылетел из двери. Он исчез в пустоте со словами:
– Отличный удар, мальчик!
Я подбежал к двери и выглянул наружу – он, все так же улыбаясь, по спирали уходил вниз сквозь туманные клочья облаков, делаясь все меньше и все незаметнее, пока ползучие усики пара, как океанские воды, не скрыли горизонтальную трещину в его лице, которая некогда называлась улыбкой.
На миг я прирос к полу, ошеломленный величием того, что свершил, – и тут Ллинос одобрительно поднял большой палец, и заклятие спало. Мы ринулись вперед. Сполох молнии озарил долину, и на секунду беспредельное металлическое сияние Нант-и-Мохского водохранилища раскинулось под нами в таком подавляющем величии, что мы все онемели. Затем мерцание электрических разрядов в тучах погасло, и тьма вновь поглотила пейзаж. Тьма, разрываемая только двумя прожекторами, подвешенными под плексигласовым носом самолета, которые были направлены на поверхность воды. Мне и не стоило спрашивать – я знал, что Мозгли укрепил их там, посмотрев «Разрушителей плотин».[37] Они должны были показать высоту сброса бомбы. Если два прожектора сольются на поверхности воды, значит, самолет вышел на заданный метраж и можно скидывать заряд. Лучи, скользившие по глади вод, были друг от друга всего в нескольких ярдах и подбирались все ближе и ближе – Торт-Кидай выравнивал самолет для последнего захода. Величественная бетонная стена плотины высилась впереди, и бомбардир Ллантрисант, не отнимая глаз от визира, завопила, перекрывая гул:
– Шесть секунд! Пять секунд! Четыре секунды!
А мы с Ллиносом стояли у входа в кокпит и переглядывались, не веря себе.
– Три секунды!
Рука миссис Ллантрисант, позабывшей о нашем присутствии, обо всем на свете, кроме этих двух пятен света на поверхности озера, между которыми сейчас была всего секунда-другая, подалась к рычагу бомбомета. Час настал. Нам нужно лишь оттянуть момент сброса на секунду или около того – и угол станет неверным, бомба упадет и затонет, не нанеся ущерба.
– Две секунды! – проверещала миссис Ллантрисант. Торт-Кидай сжимал рычаг управления железной хваткой – так же, как и много раз прежде, тогда, в Патагонии; то есть наверняка так же, как сжимал его в том бесславном заходе на Сан-Изадору поверх границы облачности, когда они сбросили бомбу на сиротский приют. Парные пятна света соприкоснулись и слились, рука зависла над рычагом, ожидая нанесения финального удара по Аберистуиту – некогда очаровательному приморскому городку.
– Одна секунда! – завопила миссис Ллантрисант и тут же в оргазме триумфа: – Пошла! Пошла! Пошла!
Мы с Ллиносом выбросили руки вперед, чтобы удержать рычаг и остановить бомбу.
Глава 24
Полицейская лошадь бьет копытом и тонко ржет; от ветра с моря заградительные щиты трещат, как фейерверки. Собаки воют, и младенцы плачут – горожане устроили давку на нижней станции Горной железной дороги, толкаются в смятении и штурмом берут поезда.
– Назад к барьеру! – кричит полицейский. – Женщины и дети идут первыми! Здоровые мужчины отправляются пешком! Сезонные недействительны!
Затем вздымается мощная волна плача – беженцы, спешащие из пригородов, приносят с собой вести о надвигающейся стене воды. Повести о древесных стволах, что, как спички, крутятся в яростной пене вод; о трейлерах, которые стихия перетряхивает, будто игральные кости в стаканчике; о поездах, которые катапультирует на центральную улицу Борта; об апокалипсисе в Талибонте, где воды ударили в мельничное колесо с такой свирепостью, что завертелось само здание мельницы. Паника ширится, полицейские лошади пятятся, ржут в ужасе и роняют хлопья с узды – поезда фуникулера скрипят и стонут от напряжения. Все до одного вагончики переполнены: человеческий груз свисает из окон гроздьями, как виноград. Еще никогда за всю историю фуникулерных линий не было такого дисбаланса между вагончиками, идущими вниз и вверх. Трос, соединяющий два вагончика-противовеса, вытягивается до толщины рояльной струны, а рельсы раскаляются добела, так что в ночи дальше по побережью в Аберайроне люди решают, что над Аберистуитом опять спустилась к земле лестница Иакова.
Когда побежали конечные титры, я вслед за Амбой вышел из кинотеатра, моргая от яркого послеполуденного солнца.
– Я не знаю, что мы на него все ходим и ходим, – рассмеялся я.
– Это же барахло, – согласилась Амба. Мы виновато переглянулись: оба знали, почему ходим – мы его обожали. Теплый июльский ветерок сдул занавес светлых волос ей на лицо. Вихры уже исчезли, и на месте озорства расцветали изысканность и самообладание. Она ткнула меня в плечо. – Надо бежать – не хочу заставлять его ждать. – Я кивнул, и она стремительно удалилась, бросив напоследок: – Увидимся в Гавани!
Я взглянул на часы; до встречи с ватиканским посланцем еще оставалось время выпить кофе у Сослана. Я заказал «капуччино» и перенес его за один из новых столиков перед киоском. У меня над головой описала ленивую дугу чайка и приземлилась на леера. Крупный экземпляр – старая, жирная, чуть ли не с кошку величиной, вероятно, она помнила дни, когда заведение Сослана было маленькой дощатой будкой, где продавалось мороженое. Я угостил чайку маленьким кусочком миндального «бискотти», но она и глазом не повела.